— Написал я как-то, — рассказывал он, — глупый стишок — эпиграмму. — Достав листок, он прочитал:
Рано утром Анча злая,
из пальто пыль выбивая,
лупит палкою сердито,
на хозяина ворчит,
словно он в пальто сидит:
«Получи-ка, получи-ка, получи-ка!»
Цел хозяин, пыли мало,
и пальто как новым стало.
Только Анча порешила,
что хозяев всех побила…
Гражданин мой, больше злобы!
Окружают нас напасти,
и многоголовой власти
ты проветри гардеробы!
Чисти пыль, кричи и бей,
и ворчи ты сколько хочешь.
И воображай притом,
что республику колотишь
своим тоненьким прутом.
Представьте, пражский цензор это запретил… Ну, скажите, что в этих строках направлено против государственного суверенитета, самостоятельности, целостности, конституционного единства или демократическо-республиканской формы нашей республики?.. Ведь там прямо говорится: «Ворчите, бранитесь, сколько угодно, вам не удастся свалить нашу республику. Если вы думаете, что ее можно победить, разрушить, — вы так же ошибаетесь, как и та Анча, что, выбивая пыль из хозяйского пиджака, думала, что отлупила хозяина». Вызвали меня ad audiendum verbum — для словесного внушения. Слава богу, начальник, высший советник, понял то, что не дошло до пражского цензора. Впрочем, может быть, и он не понял бы смысла стихотворения, но я, к счастью, состою в партии народных социалистов. Партия вступилась… До чего мы стали мнительны, пан мой!.. Надо и вам вступить в партию. Я избежал уголовного суда только благодаря партии… Вне партии вы одиноки, беззащитны, бессильны. Вы как придорожный чертополох. Кто угодно может вам сбить палкой красную головку, даже не заметив, что поврежденный стебель — это погибший человек. А если вы в партии, на вас смотрят как на луг с шелковой травой, которую не посмеет топтать кто попало.
Этот разговор вдохновил Ландика. Он решил вступить в партию. Вопрос только — в какую?
Партий тогда было более чем достаточно; но чем больше выбор, тем труднее выбрать. Были партии правительственные и оппозиционные. Правительственные — централистского направления, оппозиционные — автономистского. Централисты добивались, чтобы страна была едина, чтоб в ней были одна нация, один парламент, одно правительство, единый суд, администрация, школы, почта, армия, финансы. Автономисты же утверждали, что в республике несколько наций, у каждой есть свой язык, и хотели, чтобы у каждой области был свой особый сейм или хотя бы свой суд, свой аппарат управления и свои школы. У нейтралистских партий был эпитет «чехословацкие», а у автономистских — «словацкие».
На этих эпитетах, как на курьих ножках, возвышались два враждебных замка, каждый со своим войском: один — со смешанным, но слитым воедино «чехословацким», другой, так сказать, с «чисто словацким». Между этими двумя лагерями велись бесконечные битвы: дипломатические, политические, в печати, в жизни. Случалось, автономисты ворвутся в чехословацкий лагерь, и битва разгорается в стенах замка. Но некоторое время спустя их вытесняют оттуда, и борьба продолжается. Централисты совсем уж обезоружат автономистов, похватают их, бросят в тюрьмы, зашьют их кровавые рты, а потом выпустят, возвратят оружие и снимут швы. Борьба возобновляется с еще большей силой.
Эти эпитеты, эти курьи ножки дробили силы не только в политике, но и в науке и искусстве, в семье и в обществе. Стоит образоваться какому-нибудь научному словацкому обществу, как тотчас возникает такое же чехословацкое общество. Создали словацкий национальный музей. Этого показалось недостаточно — сразу возник чехословацкий музей и получил помещение в Сельскохозяйственном музее. Существовало, допустим, некое словацкое просветительное общество — непременно должно было появиться такое же чехословацкое. Только было объединились словацкие писатели или художники, как между ними уже вбит клин: общество чехословацких писателей, чехословацких художников. Был чехословацкий «Сокол», должен летать и словацкий «Орел». Дали «Соколу» разрешение на открытие кинотеатра, без этого не могли уже прожить ни «Орел», ни «Физкультурное объединение». И так — всюду, даже в деревенских кабачках. Были «чехословацкие республиканские» кабачки, тут собирались мелкие крестьяне; в людацких пили сторонники словацкой людовой партии; были кабачки социалистов и так далее.
Да и сам словацкий литературный язык раздвоился на официальный чехословацкий, или централистский, и чисто словацкий, или автономный.
Вот какой характер носила эта борьба в момент, когда доктор Ландик решал вопрос, в какую партию ему вступить.
Вступить в «антигосударственную», то есть «оппозиционную» партию? Это, безусловно, чревато опасностями. Бывает, конечно, что оппозиционные партии за одну ночь становятся правящими и «государственными». Возможно, это будет выгодно уже завтра. Но мы живем сегодняшним днем, поэтому нужно учитывать сегодняшнюю политическую ситуацию. Правда, конечно, что оппозиционные партии, пожалуй, привлекательнее, вызывают больше симпатий. И не только тем, что они слабее и не допущены к государственной кормушке, но и тем, что в их газетах и журналах скорее прочитаешь, какие есть ошибки и недостатки, о том, где пахнет гнилью, где дымится, а где уже горит, где нарывает и где нарыв уже прорвался.
Пусть даже это клевета — но ведь именно клевету обычно выслушивают с такой жадностью. Клевета, клевета! Да кто его знает, может, и не клевета вовсе! Трава — и та не шелохнется, если нет ветра…
В официальной прессе — одно хвастовство и славословие: все-де в порядке! Всегда одно и то же, как на гумне в молотьбу: цупы-лупы, цупы-лупы. Все одно и то же, как у деревенского пастуха, который дудит в свою дудку «ту-у, ту-у, ту-у», или у ночного сторожа, что заунывно тянет «Хвали каждый дух господень».
Ландик долго размышлял, взвешивал: какая же партия лучше?
Задача, надо сказать, не из легких.
Каждая партия хороша, если судить по ее газетам, лишь у нее — одни заслуги перед народом и нацией. Но стоит заглянуть в газеты оппозиции, окажется, что она — трутень, воплощение зла, рафинированной лжи, корыстолюбия и коварства. Говорят, враги лучше знают слабые места своих противников и стреляют в них, чтобы обеспечить себе победу. Ландик стал читать газеты различных партий, чтоб не дать маху.
Аграрии писали:
«Социалисты? Да они бы содрали с нас три шкуры… Их дворцы, стоящие миллионы, стотысячные оклады директорам — это наши мозоли, наш пот, наша кровь… Их высокие оклады, нормированный рабочий день, социальные достижения — за все это платим мы, надрываясь от зари до зари. На недельный заработок даже пары обуви не купишь… Нас душат налоги, давят поборы на социальные нужды. Не будь нашего мудрого вождя, пана министра, крестьянин давно бы дал дуба. А разорение крестьянства значит голодный мор…»
«Бедняги!» — подумал Ландик.
Час спустя он читал «Роботника». Там говорилось о каких-то чревоугодниках, о ненасытных людоедах, которые готовы проглотить все, что есть на земле и в земле — дерево, уголь, хлеб, предоставив нам одно только царство небесное. Благодарим за такую любовь. Мы за «Отче наш», но с маленьким добавлением: «Хлеб наш насущный даждь нам по дешевке днесь и немедленно…» Денежная реформа? Кукиш!.. Запрещение на ввоз хлеба из-за границы? Кукиш!.. Объединение с этими черными чертями, чернокнижниками, ночными черными тараканами, чтобы они могли нас обставить? Кукиш!.. Этот номер не пройдет, не быть черно-зеленой диктатуре{55}. «Ведь это они об аграриях, — сообразил Ландик. — Бедные социалисты!»
Ландику довелось услышать доклад секретаря Чехословацкой лидовой партии Бонифация Медерского о текущем политическом моменте. Тот сказал:
— Дети играют в политику. Сколько же они хотят автономных областей? — Он стал считать по пальцам: — Чешская, моравская, силезская, словацкая, закарпатско-русская, венгерская, немецкая. Итого — семь. Значит — семь сеймов, семь раз по шестнадцать игрушечных «министров», семь игрушечных «правительств», семь разновидностей законодательства, суда, аппарата управления. Семь заплат на новехонькой республике — да еще такой маленькой, как наша. Будут видны одни заплаты. Нам нужно крепкое платье, а не вырванная штанина или рукав. Ну, разве не дети?
«Это он о словацких людаках и националистах», — подумал Ландик и согласился с Бонифацием.
Мы не знаем, гадал ли Ландик на кофейной гуще, но в конечном счете он остановился на аграрной партии.
Впрочем, дело, конечно, не в кофейной гуще. В душе он обосновывал свое решение тем, что хотя у него и нет ни пяди земли, но он ходит по ней и похоронят его в земле. Над его могилой священник произнесет: «Ты — прах, и в прах обратишься. Мир праху его! Да будет ему земля пухом!» Разлагаясь, он удобрит собой почву, перейдет в тучный колос, в зелень травы, в окраску цветов. Почему же не принести пользу крестьянам еще при жизни? Леса, рощи, поля, реки, ручьи, — пусть чужие, — они всегда ласково примут его как друга. Птица, звери, рыба — все это, если он захочет, может стать и его достоянием — за небольшие деньги… И этот карандаш — тоже земля: он из графита, из дерева. И линейка и бумага. Перо выплавлено с помощью огня, питаемого черным горючим камнем, добытым из недр земли… Пиджак, рубашка, воротник, манжеты, галстук, шляпа — все, собственно говоря, вырастает из земли, чтобы сослужить свою службу и снова вернуться в землю… Спутники Христофора Колумба, когда показались берега Америки, с воодушевлением кричали: «Земля, земля, земля!»
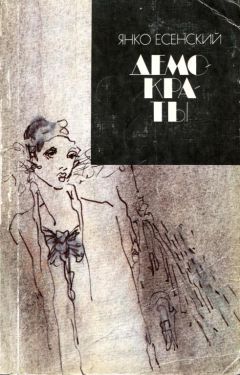

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


