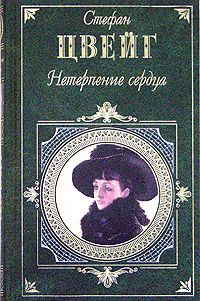Испуганное создание смущается и краснеет.
— Я служу… — начинает она, но тут же поправляется: — Я… я была компаньонкой княгини.
У нашего Каница дух захватило. (А смею вас уверить, что такого, каким он был, нелегко вывести из равновесия). Он невольно отступил на шаг.
— Вы… вы… фрейлейн Дитценгоф?
— Да, — отвечает она, вконец перепугавшись, будто ее обвинили в чем-то преступном.
Что Каницу было совершенно неведомо до сих пор, так это чувство смущения. Но в ту секунду, когда наш приятель уразумел, что нарвался на легендарную наследницу Кекешфальвы, он впервые в жизни страшно смутился.
— Пардон, — пробормотал он растерянно, поспешно сдергивая шляпу. — Пардон, милостивая фрейлейн… Но… но меня никто не предупредил о вашем приезде… Я и не подозревал… Пожалуйста, извините меня… я приехал лишь для… — Он запнулся: надо было придумать что-либо правдоподобное. — Я приехал по поводу страхования… Дело в том, что мне неоднократно приходилось бывать здесь и раньше, еще при жизни покойной княгини. К сожалению, мне тогда не представился случай познакомиться с вами, фрейлейн… Да… Так вот я пришел по поводу страхования, только из-за этого… удостовериться, в сохранности ли fundus[18]. Служебный долг. Но ничего, это не так уж срочно, в конце концов.
— О, пожалуйста, пожалуйста… — робко произнесла она. — Правда, я в этих вещах очень плохо разбираюсь. Может быть, вам лучше поговорить с господином Петервицем?
— Разумеется, разумеется, — сказал Каниц, он все еще не пришел в себя. — Я непременно дождусь господина Петервица («К чему ее поправлять?» — подумал он.) Но если вы сочтете возможным, если это не затруднит вас, сударыня, я быстренько осмотрел бы все — и делу конец. Как обстоит с движимостью, что-нибудь изменилось?
— Нет, нет, — поспешно ответила она, — ничего, совершенно ничего не изменилось. Если вам угодно убедиться…
— Это очень любезно с вашей стороны, фрейлейн, — сказал Каниц, поклонившись, и оба вошли в дом.
В гостиной он прежде всего взглянул на четыре картины Гварди, — вы их знаете, господин лейтенант, — а затем, в соседней комнате, где сейчас будуар Эдит, на стеклянный шкаф с китайским фарфором, вышивками и статуэтками из восточного нефрита. «Все на месте! — вздохнул он с облегчением. — Петрович ничего не украл, этот дурень предпочитает наживаться на овсе, картофеле и ремонте».
Между тем фрейлейн Дитценгоф, видимо стесняясь мешать незнакомому господину, беспокойно озиравшемуся по сторонам, открыла ставни. В гостиную хлынул свет. Через высокие застекленные двери террасы был хорошо виден парк. «Надо с ней завести разговор, — подумал Каниц. — Не выпускать из рук! Расположить к себе».
— Какой отсюда красивый вид на парк! — начал он, глубоко вздохнув. — Здесь, наверное, чудесно живется.
— Да, чудесно, — послушно подтвердила она, но ее слова прозвучали не совсем искренне. Каниц сразу почувствовал, что это запуганное создание разучилось открыто возражать.
Немного помолчав, она добавила, как бы поправляясь:
— Правда, госпожа княгиня здесь никогда не чувствовала себя хорошо. Она говорила, что вид равнины нагоняет на нее тоску. По-настоящему ей нравились только море и горы. Здешняя природа казалась ей слишком пустынной, а люди… — Она снова запнулась.
«Ну поддерживай же разговор, — напомнил себе Каниц. — Старайся установить контакт!»
— Но вы, фрейлейн, надеюсь, останетесь тут?
— Я? — Она невольно подняла руки, как бы желая отстранить от себя что-то неприятное. — Я?.. Нет! О нет! Что мне здесь делать одной в этом огромном доме?.. Нет, нет, сразу же уеду, как только все уладится.
Каниц украдкой рассматривал ее. Какой она кажется маленькой в этом большом зале, бедная хозяйка Кекешфальвы. А ее можно было бы назвать хорошенькой, если бы она не была так бледна и запугана; это узкое удлиненное лицо с опущенными ресницами напоминает дождливый пейзаж. Глаза нежно-васильковые, мягкие и теплые, но они, не осмеливаясь взглянуть открыто, снова и снова пугливо прячутся за ресницами. Как тонкий знаток человеческой природы, Каниц сразу понял, что перед ним надломленное существо. Человек без воли, из которого можно вить веревки. А если так, значит, не упускай случая, заводи разговор! Соболезнующе нахмурив брови, он осведомился:
— Но что тогда будет с вашей прекрасной усадьбой? Ведь тут нужна рука, твердая рука.
— Не знаю, не знаю, — нервно произнесла она. По ее хрупкому телу пробежала дрожь.
В это мгновение Каниц вдруг совершенно ясно понял, что у нее, годами приученной к беспрекословному повиновению, никогда не хватит мужества на самостоятельный поступок и что тяжкий груз богатства, навалившийся на ее слабые плечи, скорее напугал ее, чем обрадовал. Каниц лихорадочно соображал. Не зря он последние двадцать лет учился продавать и покупать, уговаривать и отговаривать. Памятуя первую заповедь коммерсанта — купить подешевле, продать подороже, — он тут же сообразил, какую педаль лучше нажать, чтобы достигнуть желаемого эффекта. «Надо расписать ей все в самом мрачном свете, — подумал он. — А вдруг удастся заарендовать имение целиком и оставить Петровича с носом? Пожалуй, это и к лучшему, что он уехал в Вену». Изобразив на своем лице сочувствие, он продолжал:
— Да, вы правы! С большим хозяйством большие хлопоты. Нет ни минуты покоя. С утра до вечера воюй то с управляющим, то с прислугой, то с соседями, а тут еще налоги, адвокаты. Стоит лишь людям пронюхать, что вы скопили немного денег, как уже нет отбоя от желающих поживиться за ваш счет. Как бы вы хорошо ни относились к ним, все равно вы для них враг. И тут уж ничем не поможешь, ничем, каждый становится вором, как только почует деньги. К сожалению, вы правы, вы правы. Чтобы совладать с таким имением, нужна железная рука, иначе ничего не получится. К этому надо иметь призвание, но даже и тогда вас ожидает вечная борьба.
— О да, — сказала она, глубоко вздохнув; видно, ей вспомнилось что-то страшное. — Люди становятся такими ужасными, когда дело касается денег. Я никогда не знала этого раньше.
Люди? Какое дело Каницу до людей? Хорошие они или плохие, его это не интересует. Ему надо арендовать имение, да побыстрее и повыгоднее. Он слушает, вежливо кивает, отвечает и одновременно, каким-то другим уголком мозга прикидывает, как бы половчее провернуть все это. Может быть, основать компанию и арендовать поместье целиком с угодьями, сахарным и конным заводами? В крайнем случае передать все в субаренду Петровичу, оставив себе движимость. Главное — это сейчас же, не откладывая, сказать об аренде. Если хорошенько нагнать страху, она согласится на все, что ей дадут. Считать она не умеет, как достаются деньги, не знает, а потому и не заслуживает большого богатства. И в то время, как каждый нерв, каждая извилина его мозга заняты напряженной работой, его язык продолжает соболезнующе болтать:
— Но самое ужасное — это тяжба. Как бы вы ни были миролюбивы, вам никогда не отделаться от вечных споров. Это всегда и удерживало меня от покупки какого-либо имения. Нескончаемые процессы, адвокаты, переговоры, судебные заседания, скандалы… Нет, уж лучше жить скромно, зато без всяких тревог и неприятностей. С такой усадьбой вам только кажется, что у вас что-то есть; на самом же деле вас беспрерывно травят, ни на минуту не оставляя в покое. Конечно, все это само по себе неплохо — усадьба, красивый старинный дом… все это чудесно… но надо иметь стальные нервы и железный кулак, чтобы управлять поместьем, иначе оно станет вечной обузой…
Она слушала, опустив голову. Вдруг она вскинула на Каница глаза; из ее груди вырвался тяжелый вздох, казалось, он шел из самой глубины души:
— Да, эта усадьба — ужасное бремя… Если бы я только могла ее продать!
Доктор Кондор неожиданно остановился.
— Мне хочется, господин лейтенант, чтобы вы себе ясно представили, что означала эта короткая фраза для нашего друга. Я уже говорил вам, что Кекешфальва поведал мне всю историю в самую тяжелую ночь его жизни, в ночь, когда умерла его жена, то есть в такую минуту, которая бывает в жизни человека, пожалуй, два или три раза, — в минуту, когда даже самый скрытный испытывает потребность обнажить свою душу перед другим человеческим существом, как перед богом. Я еще отчетливо помню, мы сидели с ним тогда внизу, в комнате для посетителей; близко придвинувшись ко мне, он говорил тихо, взволнованно, без передышки. Чувствовалось, что этим беспрерывным потоком слов он стремился оглушить самого себя; безостановочно рассказывая, он пытался забыть о том, что этажом выше умирает его жена. Но в том месте своего рассказа, где фрейлейн Дитценгоф воскликнула: «Если бы я только могла ее продать!» — Каниц внезапно умолк. Вы подумайте, господин лейтенант, даже пятнадцать или шестнадцать лет спустя Каниц побледнел, вспоминая то мгновение, когда ничего не подозревавшая стареющая девица простодушно призналась ему, что хочет скорее, как можно скорее продать усадьбу. Дважды или трижды он повторил затем эту фразу, вероятно, с той же интонацией, с какой ее произнесла она: «Если бы я только могла ее продать!» Ибо в ту секунду Леопольд Каниц со свойственной ему сметливостью моментально сообразил, что на него как с неба свалилась величайшая в жизни удача, что ему достаточно лишь протянуть руку, и он схватит ее; вместо того чтобы арендовать это роскошное имение, он мог купить его сам. И в то время как он притворно-равнодушной болтовней старался скрыть свое волнение, в его мозгу вихрем проносились мысли: «Разумеется, купить, — рассуждал он, — и прежде, чем нагрянет Петрович или будапештский директор. Нельзя выпускать ее из рук. Надо отрезать ей все пути к отступлению. Я не уеду отсюда, пока не стану хозяином Кекешфальвы». И с непостижимой раздвоенностью, присущей нашему интеллекту в минуты большого напряжения, Каниц, про себя думая только о своей выгоде, говорил ей, взвешивая каждое слово, о другом, о совершенно обратном: