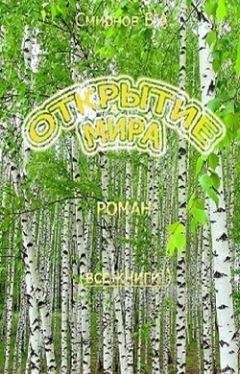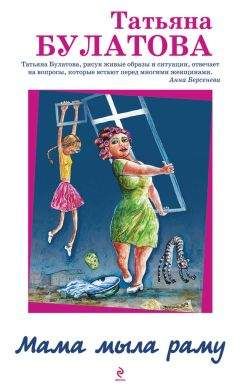Растерянно таращились ребята, им всем ужасно как стало не по себе. Оратора жалко, и за дядю Родю, за весь Совет неловко и почему‑то боязно: и там, за белым столом, нет ладу, уж схватился, ругается с Минодорой и столяром выборный из Хохловки, к нему по — соседски присоединился парковский депутат. И Шуркин батя с пастухом Сморчком насупились одинаково, ни на кого не смотрят, точно стыдятся. Унимает крикунов Митрий Сидоров, стуча железной пяткой… И кто тут прав и почему, не поймешь, все перепуталось. И, главное, непонятно и обидно — зачем же выбирали Совет, а теперь не слушаются его, мешают? Вынесли на митинге приговор о барской земле и роще, недавно тут, у Сморчихи, радостно — весело советовались, орали, как поскорей и лучше все сладить, и на‑ка: ни с того ни с сего поворотили обратно. Да стоит ли жалеть бородатого, близорукого приезжего из уезда, коли он повел за собой растяп неведомо куда? Ну, пусть он наш дядька, простецкий, а в какую сторону гнет — не поймешь. И почему многие соглашаются с ним? Ну, не многие, а порядочно, криком кричат на Совет, зачем тот мешает говорить человеку.
Пока Шурка отчаивался и пугался, ломал себе голову, на заседании произошла новая, казалось, вовсе теперь невозможная перемена. Он, Шурка, и не заметил, как все случилось.
Кажется, оратор, довольный криком, поддержкой, заговорил ласково — весело, с шуточками — прибауточками. Он сказал, смеясь, что грешно, пожалуй, отнимать купленное, проданное. Дьявол с ней, с рощей Крылова, пускай ее возьмет нечистый дух! Придет желанное времечко, тряхнем, мать честная, казенными лесами, монастырскими, правильно?
— Ты, мужицкий заступник, Микола — угодник, за кого молитву‑то читаешь? — спросил Иван Алексеич Косоуров. — Двадцать семь десятин сулишь каждому, а тут одной рощи на округу жалеешь!
И все живое вокруг очнулось, стряхнуло с себя колдовское наваждение.
Опять Шурка видел тех самых баб и мужиков, которые у школы не захотели слушать приезжего и прогнали его от стола.
Оратор уронил очки. Он нагнулся за ними, будто кланяясь Косоурову, всей толпе в кути.
— Извините, послушайте меня, друг…
— Друг, да не вдруг! — отозвались из сеней. Оратора затрясло, он заплакал.
То же было у него приятно — открытое, доверчивое лицо в добрых, крупных морщинах и частых угрях. Так же лохматилось рыжеватое медвежье волосье. Но мокрые подслеповатые прищуры его горели темным огнем, рот злобно кривился. Он не стеснялся и не конфузился, он ругался и грозил, брызгая слюной, и она висела пенно — серыми клочьями на его бороде.
— По уряднику соскучились? Обещаю, получите… не землю — порку, раз не хотите слушаться нас, социалистов — революционеров…
— Где же ваша революция? — спросил из окна молодой, крепкий басок, по — городскому немножко акающий. — В кармане у князя Львова?
— Я сказал, Виктор… товарищ Чернов…
— Не знаем такого! Оратор больше не плакал. Глаза его были сухие, колючие, и голос стал скрипуче — сухим:
— А кого вы знаете, позвольте спросить?
— Ленина, — ответил за всех дядя Родя, усаживаясь на табуретку.
Оратор скрипел и скрипел, как коростель, но его уже мало кто слушал, мужики толковали другое:
— Слыхали про Ленина, да не шибко…
— Ты, Родион Семеныч, сам‑то видел Ленина?
Дядя Родя отозвался как‑то застенчиво — тихо, словно боясь, что ему не поверят, и оттого получилось очень доверительно, как бывает, когда говорят тайну:
— Я его недавно на руках нес… как встречали на Финляндском вокзале, в Питере, — сказал он.
Все так и ахнули.
— Расскажи! — попросили его.
Как только заговорили, сразу точно позабыли оратора, не обращали больше на него внимания, так показалось ребятам. Оратор, не закончив своей речи, замолчал, постоял, тускло — серый, усталый, жалкий, трясуче протирая вынутым мятым платком стекла очков и никого без очков не видя. Посторонний, как есть чужой, оратор, шаркая добрыми крестьянскими сапогами, отошел в сторону.
— А ты, Родя, мил — человек, сам‑то взаправду большак? — пытал народ Яшкиного отца. — Али выхваляешься?
Дядя Родя не обиделся, усмехнулся.
— Записался недавно. Имею партийную карточку, паспорт, что ли, партийный, — ответил он.
— А с собой он у тебя, паспорт‑то большаков? Покажи!
Дядя Родя отстегнул солдатскую, защитного цвета, пуговицу на левом, тугом кармашке гимнастерки, вынул и аккуратно — осторожно размотал чистый, длинный бинт, и Шурка увидел красный квадратик, может, прямоугольник, скоро не разглядишь, не разберешь — не то из картона, не то бумажный, но твердый и красный — красный, как кровь. Эта партийная карточка загуляла по рукам мужиков.
Катька Растрепа и Колька Сморчок чуть не свалились с печи, разглядывая диво издали. А Яшка Петух не шелохнулся и тем выдал себя: пока отец, сняв гимнастерку, умывался с дороги, он, Яшка, наверняка успел порыться в нагрудном кармашке, и не в одном. А может, дядя Родя сам показал, он такой умница, насквозь видит Петуха и понимает и, главное, обращается с ним и со всеми ребятами всегда как со взрослыми. И хоть бы словцом каким намекнул Петушище, а еще называется друг! Володька Горев, известно, не прозевал, притворился, хвастун, будто для него эти питерские штуковины — партийные паспорта — не новость.
Мамки тянулись посмотреть красную карточку и не смели взять, пока Апраксеин Федор тихонько, как бы невзначай, двумя обкуренными, тоже почти красными пальцами не передал карточку жене. Та, перекрестясь, подержала, как молитвенник, и бережно пустила дальше по бабьим протянутым ладоням — всем хотелось подержать и посмотреть эту диковинку.
Красная карточка побывала в кути, за окном на улице и целехонькая вернулась к Яшкиному отцу в нагрудный кармашек, к самому сердцу.
— Сколько там будет, мы скажем, десятин на душу — после сосчитаем: все наше. Главное — не ждать, не кланяться, брать силой!.. Вот она какая, рабочая‑то партия, «ничего не понимающая» в деревенских делах, — строго сказал дядя Родя Большак. — Одна из всех партий советует нам немедля брать господскую землю даром… Судите ее, товарищи, как хотите, она, партия большевиков — ленинцев, против войны, за немедленный мир. Она, наша партия, за Советы, за землю, фабрики, заводы, чтобы все было достоянием народа… Скажем, не таясь, — за царство рабочих и крестьян!
Глава VI
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!.
Дальше все пошло удивительно невозможно. Подумать только, кричали, смеялись, сердились, слушали долго всякое, говорили, говорили, наверное, мозоли на языках и в глотках натерли от такой работы, а как стал Совет решать — все решил в одну минуточку.
Правда, пастух Сморчок, засветясь, ожив на скамье, в холстяной своей одежине, белесый курчавинами и обогнушкой, за белой скатертью — что Илья — пророк на облаке, заговорил, как на лужайке у школы, повторяя настойчиво, что надобно бы помочью, сообща пахать и сеять.
— Опоздали, проковыряемся в одиночку до троицы. Да и не каждому сподручно — ищи лошадей, семян… А тут как бы хорошо, травка — муравка, справедливо, одним махом на барских‑то лошадушках подняли бы яровое и засеяли, засадили… из тех же господских анбаров, взаймы, до осени. Там, в анбарах, чу, хватит нуждающимся и останется хозяевам досыта, — совсем как добрый пророк Илья, распоряжавшийся на небе дождиком, сейчас распоряжался пастух барским добром. — Не грабители какие, все вернем, заплатим, не пропадет за народом, — говорил Евсей Борисович. — Попросить миром барыню, поклониться другой раз, верно, негрешно, голова не отвалится. Глядишь, и распорядится: и лошадок прикажет и семян… Не управляло, из ружей в людей не паляет, жалостливая она, Ксения Евдокимовна, я доглядел. Мужа побаивается, обещалась ему прописать, уговорить, сам слышал… И, слава богу, ничегошеньки нам больше не требуется, травка — муравка!
Снова было заспорили.
Одни, соглашаясь, шумели: правильно, молодец, Евсей Борисыч, сам бог тебя под локоть толкнул, надоумил, помочью‑то, артелью горы своротим за два — три дня. Опять же не горюй, на чем пахать, чего в землю кидать. Им, в усадьбе, тоже ссориться ноне с мужиком невыгодно — зараз трепыхнет крыльями красный петух, споет невзначай середь ночи песенку… Ах ты, сообразительная душа, праведная и есть!
Иные в открытую смеялись: жалел волк кобылу, оставил хвост да гриву… Так и твоя Ксения Евдокимовна, огребешь — не увезешь. И на красного петуха управу найдут, власть ихняя, страшиться им некого… Нас? Хо — хо! Мы, брат, в драке не робеем и на печке не дрожим… Что баять, семеро одного не боимся, точно!
Третьи засумлевались о другом, без шуток, сердито. Да хоть бы и вышло с лошадьми, с семенами! Оно бы и очень хорошо, да никуда не годится… Как бы не стали одни пахать, другие пузом к солнышку лежать. А делить урожай, смотри, явятся первыми…