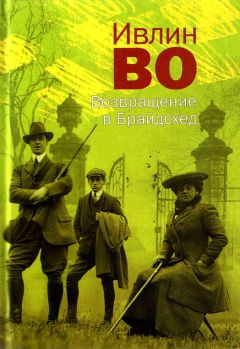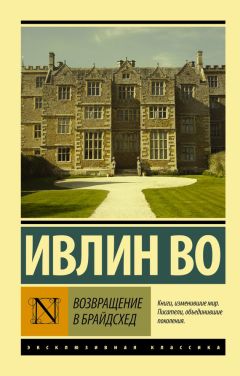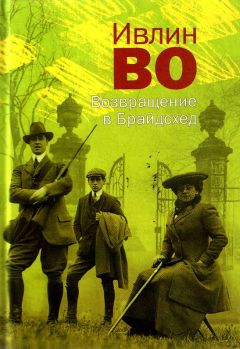Я сказал что-то про верблюда и игольное ушко, и она радостно подхватила эту тему.
— Но конечно же, — сказала она, — очень мало вероятно, чтобы верблюд прошел через игольное ушко. Но ведь писание — это просто каталог маловероятных вещей. Разве вероятно, чтобы бык и осел поклонялись младенцу? Вообще животные в житиях святых совершают удивительнейшие поступки. Это и есть поэтическая, сказочная сторона религии.
Но я не поддался ее религии, как не поддался и ее обаянию, вернее, поддался тому и другому в равной мере. Мне тогда ни до чего не было дела, кроме Себастьяна, и я уже чувствовал нависшую над ним угрозу, хотя и не подозревал еще, как она страшна. Он неотступно и отчаянно молил только об одном: чтобы его оставили в покое. У голубых вод своей души, под шелестящими пальмами он был счастлив и миролюбив, как полинезиец; только когда за коралловым рифом бросил якорь большой корабль, и к песчаному берегу лагуны пристала шлюпка, и вверх по склону, не знавшему отпечатка сапога, устремилось грозное вторжение торговца, правителя, миссионера и туриста — только тогда настало время выкопать из земли допотопное племенное оружие и бить в барабаны в горах или же, еще того проще, уйти с солнечного порога в темную глубину хижины и на земляном полу у стены, по которой шествуют упраздненные рисованные боги, лежать дни и ночи, надрываясь от кашля, в окружении бутылок из-под рома.
А так как для Себастьяна среди нарушителей его покоя были и его собственная совесть, и все человеческие привязанности, дни его в Аркадии были сочтены. Ибо в то для меня столь безмятежное время Себастьян учуял опасность. Мне было знакомо это его тревожное, подозрительное настроение, когда он, словно олень, вдруг поднимал голову при первом отдаленном звуке охоты; я видел и раньше, как он весь настораживался, когда речь заходила о его семье или его религии; теперь же я обнаружил, что тоже нахожусь под подозрением. Любовь его не стала холодней, но стала безрадостной, ибо я не делил с ним больше его одиночества. Чем больше я сближался с членами его семьи, тем неотвратимее становился частью того внешнего мира, от которого он пытался спастись; я делался еще одной цепью, приковывавшей его к чуждому миру. Именно эту роль старалась мне навязать его мать своими задушевными беседами. Но прямо ничего не говорилось. Я только смутно чувствовал, и то далеко не всегда, что происходит вокруг.
Внешне единственным врагом был мистер Самграсс. Мы с Себастьяном прожили в Брайдсхеде две недели, предоставленные главным образом самим себе. Брат его был занят спортом и делами имения; мистер Самграсс сидел в библиотеке и работал над книгой леди Марчмейн; сэр Адриан Порсон занимал почти все ее время. Мы встречались с остальными только по вечерам; под этой просторной крышей хватало места для нескольких независимых друг от друга жизней.
По прошествии двух недель Себастьян сказал:
— Не могу больше выносить мистера Самграсса. Поедемте в Лондон.
Мы уехали, и он остановился у нас и с тех пор стал отдавать предпочтение моему дому перед „Марчерсом“. Отцу он понравился.
— Я нахожу твоего друга забавным, — сказал он мне. — Почаще приглашай его.
Позже, опять в Оксфорде, мы вернулись к прежней жизни, но она словно уходила у нас из-под ног. Грусть, охватывавшая Себастьяна и в прошлый семестр, теперь превратилась в постоянную хмурость, даже по отношению ко мне. Где-то на сердце у него лежала боль, но природы ее я не знал и только сострадал ему, понимая, что бессилен помочь.
Если он бывал весел теперь, это означало, что он пьян, а пьяный он бывал одержим идеей „извести мистера Самграсса“. Он сочинил куплеты с припевом „Самграсс — свиней пас!“ на мотив боя курантов Святой Марии и не реже чем раз в неделю устраивал у него под окнами серенады. Мистер Самграсс удостоился чести первым среди преподавателей получить домашний телефон. Подвыпивший Себастьян звонил ему по этому телефону и напевал в трубку свое немудреное сочинение. И все это мистер Самграсс принимал, как говорится, с доброй душой, при встрече улыбался заискивающе, но раз от разу все увереннее, словно каждое полученное оскорбление каким-то образом укрепляло его власть над Себастьяном.
В том семестре я начал понимать, что Себастьян — пьяница совсем в другом смысле, чем я. Я напивался часто, но от избытка жизненных сил, радуясь мгновению и стремясь продлить, испить его до дна; Себастьян пил, чтобы спрятаться от жизни. Чем старше и серьезнее мы оба становились, тем меньше пил я и тем больше он. Я узнал, что нередко после моего ухода он допоздна засиживался один, накачиваясь вином. Несчастья обрушились на него в такой быстрой последовательности и с такой жестокой силой, что даже трудно сказать, когда я впервые понял, что мой друг в беде. На пасхальные каникулы я уже это ясно видел.
Джулия любила говорить: „Бедняжка Себастьян. Это в нем что-то химическое“. Так было модно выражаться в те годы, отдавая дань популярным фантастическим представлениям о науке. „Между ними что-то химическое“, — говорилось о двух людях, испытывающих друг к другу непреодолимую ненависть или любовь. То была старинная концепция детерминизма, только в новой форме. Я не считаю, что в моем друге было что-то химическое.
Пасхальные каникулы в Брайдсхеде прошли печально и завершились меленьким, но незабываемо грустным происшествием. Себастьян страшно напился перед ужином в материнском доме и тем ознаменовал начало нового периода своей плачевной жизни, сделав еще один шаг в бегстве от семьи, приведшей его к гибели.
Это произошло на исходе того дня, когда из Брайдсхеда разъехалась пасхальные гости. В сущности, пасхальные гости собрались только во вторник на пасхальной неделе, потому что время со страстного четверга до пасхи все Флайты проводили в молитвенном уединении на подворье какого-нибудь монастыря. В этом году Себастьян сказал сначала, что не поедет, но в последний момент уступил и вернулся домой в состоянии глубокой подавленности, из которой я оказался бессилен его вывести.
Он пил уже целую неделю — только я один знал, как много, — пил нервно, тайком, совсем не так, как когда-то. Пока в доме гостил народ, в библиотеке всегда стоял винный поднос, и Себастьян завел привычку заглядывать туда в разное время дня, не сказавшись даже мне. Днем в доме часто никого не было. Я трудился в маленькой садовой комнате, разрисовывая еще одну панель. Себастьян, сославшись на простуду, оставался дома и все это время почти не бывал трезвым; внимания он избегал, по целым дням не произнося ни слова. Время от времени я замечал бросаемые на него удивленные взгляды, но никто из гостей не знал его настолько близко, чтобы заметить перемену, а родные все были поглощены каждый своими гостями.
Когда я заговорил с ним об этом, он сказал:
— Не могу выносить всю эту публику.
Но только когда „вся эта публика“ уехала и он остался лицом к лицу со своими домашними, произошел срыв.
По заведенному порядку поднос для коктейлей ставили в гостиной ровно в шесть; каждый наливал себе что хотел, а когда мы уходили одеваться к ужину, поднос уносили; позднее, уже перед самым ужином, коктейли появлялись снова, теперь уже разносимые лакеями.
После чая Себастьян исчез; свет померк, и я провел следующий час, играя в ма-джонг с Корделией. В шесть часов я сидел в гостиной один, как вдруг он вошел с хмурой гримасой, которую я слишком хорошо знал, и в голосе его, когда он заговорил, была знакомая мне пьяная хрипота.
— Что, коктейли еще не принесли? — Он неуклюже дернул сонетку. Я спросил:
— Где вы были?
— Наверху у няни.
— Не верю. Вы пили где-то.
— Я сидел у себя в комнате и читал. У меня насморк. Сегодня хуже.
Когда появился поднос, он плеснул себе в стакан джина и вермута и унес. Я пошел за ним, но наверху он захлопнул у меня перед носом дверь своей комнаты и повернул ключ.
Я вернулся в гостиную, полный тоски и дурных предчувствий.
Собралась семья. Леди Марчмейн спросила:
— Куда запропастился Себастьян?
— Он пошел к себе и лег. У него разыгралась простуда.
— Ах господи, надеюсь, это не инфлуэнца. Последние дни я замечала, что его как будто бы лихорадит. Ему ничего не нужно?
— Нет. Он просил, чтобы его ни в коем случае не беспокоили.
У меня мелькнула мысль поговорить с Брайдсхедом, но его суровая, гранитная маска исключала всякую откровенность. С горя я сказал перед ужином Джулии:
— Себастьян пьет.
— Что вы! Он даже не спускался за коктейлем.
— Он пьет у себя в комнате с самого обеда.
— Вот скука. Какое странное занятие. Он сможет выйти к ужину?
— Нет.
— Ну, придется вам о нем позаботиться. Это не мое дело. Часто он этим занимается?
— В последнее время часто.
— Как это скучно.
Я попробовал толкнуть дверь Себастьяна, убедился, что она заперта, и от души понадеялся, что он спит, но, вернувшись к себе в комнату из ванной, застал его сидящим у моего камина. Он был совсем одет к ужину, не считая ботинок, но галстук его был повязан криво, а волосы торчали дыбом; лицо его пылало, глаза чуть заметно косили. Речь его звучала невнятно.