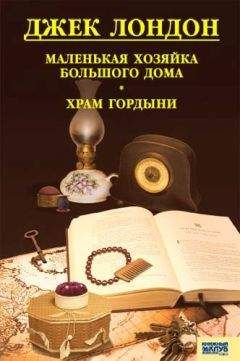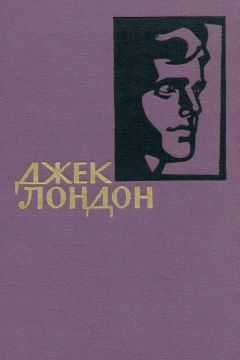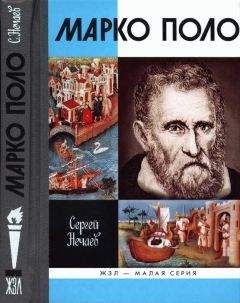— Что же, я готова признаться, — ответила Льют, тщательно обдумывая слова, — что моя идея была не единственной.
Тут к ним подошла Эрнестина и увела Грэхема со словами:
— Мы все вас ждем. Мы снимали карты, и вы мой партнер. К тому же Паоле хочется спать. Итак, прощайтесь и отпустите ее.
Паола ушла к себе в десять часов, но бридж продолжался до часу. Дик простился с Грэхемом у коридора, идущего к башне, и, по-братски обняв Эрнестину, собрался проводить свою хорошенькую свояченицу.
— Пару слов, Эрнестина, — сказал он перед тем, как проститься, открыто и дружески глядя своими серыми глазами, но голосом таким серьезным, что она сразу насторожилась.
— Ну, что же я опять наделала? — она надула губки и улыбнулась.
— Пока ничего, но лучше не начинай, не трави свое сердце. Ты еще ребенок — восемнадцать лет! К тому же прелестный ребенок, которого нельзя не полюбить, пожалуй, любой мужчина встрепенется, у любого сердце екнет. Но Ивэн Грэхем не «любой мужчина».
— Не беспокойтесь обо мне, — негодующе вспыхнула она.
— Все же послушай. В жизни каждой девушки наступает минута, когда в ее хорошенькой головке зажужжит пчела любви. Тут-то ей и нужно уберечься от ошибки и не полюбить неподходящего человека. Ты в Ивэна Грэхема еще не влюбилась и не влюбляйся. Вот все, что от тебя требуется. Он тебе не пара и вообще не для молоденьких. Он человек пожилой, виды видал и уж, наверное, успел позабыть о романической любви и переживаниях, он знает о них больше, чем ты узнаешь, проживи хоть с десяток жизней. Если он когда и женится снова…
— Снова? — перебила его Эрнестина.
— Он, милая моя, уже пятнадцать лет тому назад овдовел.
— Что же из этого? — спросила она его.
— А то, — продолжал Дик совершенно спокойно, — что он уже давно прожил свой юношеский роман и какой прекрасный роман! И то, что он за пятнадцать лет не женился вторично, значит…
— Что он еще не оправился от утраты? — опять прервала его Эрнестина. — Но это не доказывает…
— Значит, что ученический период юношеских романов он уже пережил, — невозмутимо продолжал Дик. — Ты только всмотрись в него и сразу поймешь, что не раз многие прекрасные женщины, умные, вполне зрелые, пытались покорить его сердце, затевали игры, рассчитанные на взаимные чувства, что требовало от него всей его твердости духа. Однако пока поймать его никому не удалось. Что же до молоденьких девушек, то ты сама знаешь, что к человеку такому выдающемуся их прибивается не одна стая. Ты все это обдумай и не давай воли своим чувствам. Не дашь своему сердцу воли — и его избавишь от ужасного опустошения.
Он взял ее руку в свою и ласково притянул к себе, обняв ее за плечи. Несколько минут длилось молчание, и Дик тщетно старался отгадать, о чем она думает.
— Ты знаешь, мы, видавшие виды старики… — начал он полушутливо и как бы виновато. Она нетерпеливо передернула плечами и запальчиво воскликнула:
— Одни только и стоите чего-нибудь! Молодые — все молокососы! Они полны жизни, резвятся, как жеребята, поют и пляшут, но нет в них ничего положительного, ничего значительного. Они, да, они не производят серьезного впечатления, не могут многого понять, в них нет силы и мужественности.
— Понимаю, — задумчиво сказал Дик, — но не забудь посмотреть и на обратную сторону медали. Вы, пылкие, юные создания, несомненно, производите на мужчин постарше совершенно такое же впечатление! Они могут видеть в вас игрушку, забаву, прелестных младенцев, которых приятно обучить кое-каким пустячкам, но не подруг, не равных, с кем можно было бы поделиться, поделиться всем. Жизнь — наука, и ей нужно учиться. Они же свой курс прошли, или отчасти. Но такие птенцы, как ты, Эрнестина! Многому ли ты успела научиться?
— А ты расскажи мне, — внезапно, с почти трагической интонацией в голосе обратилась она к нему, — про сумасшедшую его любовь пятнадцать лет тому назад, когда он был молод.
— Пятнадцать? Нет, восемнадцать, — быстро ответил Дик. — Они были женаты три года, а потом она умерла. Ты сама сосчитай. Они были обвенчаны настоящим английским пастором и жили в законном браке приблизительно в то самое время, когда ты, новорожденная, с плачем отрывалась от матери.
— Да, да, продолжай, — нервно понукала она его. — Какая она была?
— Поразительной красоты, кожа ее была золотисто-смуглого, светло-золотистого цвета. Она принадлежала к белой расе только наполовину и была королевой полинезийского острова, а до нее была королевой ее мать, а отцом был англичанин, кончивший Оксфордский университет, настоящий ученый. Ее звали Номаре. Она была королевой острова Хуахоа, язычница. Он же был так молод, что ему ничего не стоило стать таким же язычником, как и она, если не больше. В их браке не было ничего низменного. Он не был нищим авантюристом. Она принесла ему в приданое свой остров на океане и сорок тысяч подданных, а он принес на этот остров все свое состояние, а состояние было большое. Он выстроил там дворец, какого на островах Южных морей никто никогда не видел и не увидит, — чисто в туземном стиле: кровля травяная, тесаные колонки, переплетенные кокосовым волокном. Казалось, дворец вырос из острова, точно у него там корни проросли, это было местное искусство, а проектировал дворец архитектор Хопкинс, выписанный специально из Нью-Йорка.
Господи! Чего у них только не было! Собственная королевская яхта, дача в горах, свои лодки, лодочный сарай, то есть так называемый сарай — это тоже был дворец. Это все я знаю хорошо. Я там бывал на больших празднествах, но уже после них. Номаре умерла, а где был Грэхем, никто не знал. Страной управлял какой-то ее родственник по боковой линии.
Я тебе говорил, что Ивэн превзошел ее своим языческим великолепием. Столовая посуда у них была золотая. Да что говорить! Он был совсем еще мальчиком. У нее была наполовину английская кровь! Жизнь их была, как волшебная сказка! С тех пор прошло много лет, и Ивэн Грэхем уже вышел из-под власти молодости, и, чтобы его пленить, нужна особенная, очень замечательная женщина. К тому же он разорен, хотя и не прогулял свои деньги, тут просто не повезло — и все.
— Ему бы скорее подошла Паола, — задумчиво сказала Эрнестина.
— Совершенно верно, — согласился Дик. — Паола или другая женщина, не менее интересная, имела бы в тысячу раз больше шансов привлечь его, чем молодые прелестные создания всего мира вроде тебя. Ведь и у нас, стариков, есть свои идеалы.
— А мне придется довольствоваться мелкой сошкой, — вздохнула Эрнестина.
— До поры до времени, пожалуй, — усмехнулся он. — Не забывай, что и ты со временем тоже сможешь стать замечательной, зрелой женщиной, способной захватить и такого человека, как Ивэн.
— Но к тому времени я буду давно замужем, — огорченно заметила Эрнестина.
— Ну, конечно, — согласился он, — и это будет твоим счастьем, милая моя, а пока спокойной ночи. Ты на меня не сердишься?
Она печально улыбнулась и покачала головой, но протянула губки для поцелуя и сказала на прощание:
— Я обещаю не сердиться, если ты мне покажешь дорогу, которая в конце концов приведет меня к таким старикам, как ты и Грэхем.
Дик Форрест, гася по пути электричество, прошел в библиотеку и, отбирая ряд книг по механике и физике, необходимых ему для очередных справок, улыбнулся, довольный разговором со свояченицей. Он понимал, что заговорил вовремя и что откладывать этот разговор больше нельзя было ни на минуту. Но на полпути к скрытой за книгами винтовой лестнице, ведущей в его рабочий кабинет, несколько слов, брошенных Эрнестиной, вдруг отозвались в его сознании так внезапно, что он разом остановился, опираясь плечом к стене: «Ему бы скорее подошла Паола».
— Осел! Дурак! — громко засмеялся он и пошел дальше. — А ведь я женат уже двенадцать лет!
И он об этом больше не вспоминал, пока, уже ложась в постель в своем спальном портике и взявшись за решение занимавшей его задачи по электричеству, не взглянул мельком на барометры и термометры. И тут-то, вглядываясь через большой двор в черневший вдалеке флигель и спальный портик жены и соображая, заснула ли она уже, он снова явственно услышал слова Эрнестины. Он тотчас отогнал их, опять презрительно назвав себя «дураком» и «ослом», зажег сигарету и, как обычно, стал пробегать отобранные книги, закладывая спичками нужные страницы.
Уже давно пробило десять часов, когда Грэхем, беспокойно скитаясь по дому с тайной надеждой, что Паола Форрест когда-нибудь показывается раньше полудня, забрел в музыкальную комнату. Хотя он гостил в Большом доме уже несколько дней, он еще не везде побывал и сюда вошел впервые. Это был чудесный зал, футов тридцать пять на шестьдесят, подымавшийся на высоких стропилах к потолку, откуда в желтые стекла лился теплый золотистый свет. Стены и мебель были насыщены красными тонами, и он испытал такое благоговейное чувство, точно уже слышалась музыка.