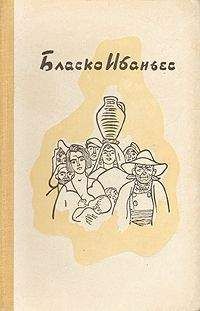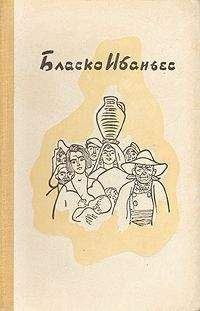Одна лодка безъ мачты перебрасывалась съ волны на волну, какъ мячикъ, по направленію къ опасному мсту. Народъ кричалъ на берегу, видя лежащій на палуб экипажъ, подавленный близостью смерти. Въ толп шли разговоры о томъ, чтобы выйти на лодк изъ порта навстрчу этимъ несчастнымъ, бросить имъ канатъ и притащить на буксир къ берегу; но даже самые смлые люди не ршались привести этотъ планъ въ исполненіе, глядя, какъ бушуетъ море, наполняя все водное пространство жидкою пылью. Всякая лодка, вышедшая изъ порта, погибла бы, прежде чмъ гребцы успли бы взмахнуть одинъ разъ веслами.
— Эй, кто за мною? Надо спасти этихъ несчастныхъ!
Это былъ грубый и властный голосъ капитана Льовета. Онъ гордо стоялъ на отекшихъ ногахъ, со сверкающимъ и смлымъ взглядомъ, и руки его дрожали отъ гнва, вызваннаго въ немъ опасностью. Женщины глядли на него съ изумленіемъ. Мужчины разступались, образуя вокругъ него широкій кругь, а онъ безбожно ругался, размахивая руками, точно собирался наброситься съ кулаками на всхъ окружающихъ. Молчаніе этихъ людей возмущало его, какъ будто онъ стоялъ передъ непокорнымъ экипажемъ.
— Съ какихъ это поръ капитанъ Льоветъ не находитъ въ своемъ город людей, которые вышли бы за нимъ въ море?
Онъ произнесъ эти слова, какъ тиранъ, который видитъ, что ему не повинуются, или какъ Богъ, отъ котораго отворачиваются и бгутъ врующіе. Онъ говорилъ по испански, а не на мстномъ діалект, что служило также выраженіемъ его слпого гнва.
— Здсь, капитанъ, — крикнуло разомъ нсколько дрожащихъ голосовъ. И протолкавшись въ толп, въ кругу появилось пять стариковъ, пять скелетовъ, изсушеныхъ бурями и непогодою, — прежнихъ матросовъ изъ экипажа капитана Льовета, связанныхъ съ нимъ пережитками чувства подчиненія и любви, созданной совмстнымъ сопротивленіемъ опасности въ мор. Одни изъ нихъ вышли, волоча ноги, другіе — подпрыгивая, какъ птицы; у нкоторыхъ глаза были широко раскрыты, и зрачки глядли тускло отъ старческой слпоты, и вс они дрожали отъ холода, несмотря на то, что были одты въ шерстяныя куртки, а шапки были надвинуты на двойные платки, обмотанные вокругъ висковъ. Это старая гвардія спшила умереть вмст со своимъ кумиромъ. Изъ топпы выбгали женщины и дти и бросались къ старикамъ, удерживая ихъ. — Ддушка! — кричали внуки. — Отецъ! — стонали молодыя женщины. А смлые старички оживились, точно умирающія лошади при звукахъ военной музыки, оттолкнули руки, хватавшія ихъ за шею и ноги, и крикнули въ отвтъ на вопросъ своего командира:- Здсь, капитанъ.
Морскіе волки со своимъ кумиромъ во глав проложили себ путь въ толп, чтобы спустить на воду одну изъ лодокъ. Они раскраснлись и обезсилли отъ напряженія; шеи ихъ вздулись отъ гнва, и вс усилія привели лишь къ тому, что лодка сдвинулась къ морю на нсколько шаговъ. Разозлившись на свою дряхлость, они попытались сдлать еще одно усиліе, но толпа воспротивилась ихъ сумасшествію, напала на нихъ, и старики исчезли, растащенные родными въ разныя стороны.
— Оставьте меня, трусы! Я убью каждаго, кто дотронется до меня! — зарычалъ капитанъ Льоветъ.
Но народъ, обожавшій капитана, въ первый разъ проявилъ насиліе надъ нимъ. Его схватили, какъ сумасшедшаго, не слушая его мольбы и оставаясь равнодушными къ его проклятіямъ и ругательствамъ.
Погибавшая лодка, лишенная всякой помощи, мчалась навстрчу смерти, подбрасываемая волнами. Она была уже близка къ скаламъ, она должна была сейчасъ разбиться среди вихря пны. И этотъ человкъ, который относился всегда съ полнйшимъ презрніемъ къ жизни себ подобныхъ, кормилъ акулъ цлыми племенами негровъ и пользовался страшною, зловщею репутаціею, бшено вырывался теперь изъ дюжихъ, державшихъ его рукъ, проклиная людей, не позволявшихъ ему рискнуть жизнью для спасенія этихъ чужихъ людей, пока силы не оставили его, и онъ не разрыдался, какъ ребенокъ.
Если вся Валенсія изнывала въ август отъ жары, то пекари подавно задыхались у печи, гд было жарко, точно на пожар.
Голые, прикрытые лишь ради приличія блымъ передникомъ, они работали при открытыхъ окнахъ; но даже при этихъ условіяхъ ихъ распаленная кожа таяла, казалось, обращаясь въ потъ, который падалъ по каплямъ въ тсто, и библейское проклятіе исполнялось на половину, такъ какъ покупатели ли хлбъ, смоченный, если не своимъ, то чужимъ потомъ.
Когда открывалась желзная дверца у печи, пламя окрашивало стны въ красный цвтъ, a отраженіе его скользило по доскамъ съ тстомъ и тоже окрашивало блые передники и запыленныя мукою и блествшія отъ пота атлетическія груди и мускулистыя руки, придававшія пекарямъ что-то женственное.
Лопаты вдвигались и вытаскивались изъ печи, оставляя на раскаленныхъ кирпичахъ куски тста или вынимая пропеченные хлбы съ румяною коркою, распространявшіе пріятный запахъ жизни. А въ это время пять пекарей, склонившихся надъ большими столами, мсили тсто, мяли его, какъ отжимаютъ мокрое блье, и разрзали на части. Все это они длали, не поднимая головы, разговаривая ослабвшимъ отъ усталости голосомъ и напвая тихія и заунывныя псни, которыя часто не допвались ими до конца.
Вдали слышались голоса sereno {Sereno — ночной сторожъ.}, выкрикавшихъ часы, и крики ихъ рзко звучали въ духот и тишин лтней ночи. Публика, возвращавшаяся изь кафе и изъ театра, останавливалась передъ ршетками оконъ пекарни, чтобы поглядть на голыхъ пекарей, работающихъ въ душной берлог. Фигуры ихъ были видны только отъ пояса и напоминали, на фон пламени въ печи, души гршниковъ на картин, изображающей Чистилище. Но раскаленный воздухъ, сильный запахъ хлба и вонючій потъ пекарей живо отгоняли любопытныхъ отъ ршетокъ, и въ пекарн возстановлялось прежнее спокойствіе.
Наибольшимъ авторитетомъ пользовался среди пекарей Косоглазый Тоно, здоровенный парень, славившійся своимъ сквернымъ характеромъ и грубымъ нахальствомъ, хотя надо сказать, что люди этой профессіи вообще не отличаются воспитанностью!
Онъ выпивалъ, но ни руки, ни ноги его не дрожали отъ вина; даже наоборотъ вино вызывало въ немъ такую драчливость, точно весь міръ былъ тстомъ, какъ то, которое онъ мсилъ въ пекарн. Въ трактирахъ, въ окрестностяхъ города, мирные постители дрожали, точно при приближеніи бури, когда вдали появлялся Тоно во глав куадрильи пекарей, съ одобреніемъ встрчавшихъ вс его остроты. Это былъ настоящій мужчина. Онъ ежедневно колотилъ жену и не давалъ ей почти ни гроша изъ заработка, и дти его, босыя и голодныя, съ жадностью набрасывались на остатки ужина, который онъ бралъ съ собою въ корзин каждый вечеръ въ пекарню. А если не считать этого, то онъ былъ добрый малый, который прокучивалъ деньги съ товарищами, чтобы имть право мучить ихъ своими грубыми шутками.
Хозяинъ пекарни относился къ нему съ нкоторымъ уваженіемъ, какъ будто побаивался его, а товарищи по профессіи, бдные малые, обремененные семьею, избгали всякихъ недоразумній съ нимъ и терпли его грубости съ покорною улыбкою.
У Тоно была своя жертва въ пекарн — бдный М_е_н_у_т_ъ {Меnut (menudo) — маленькій, худой, тщедушный.}, молодой, тщедушный работникъ, недавно вышедшій изъ ученія. Товарищи смялись надъ нимъ за непомрное усердіе въ работ, которымъ онъ надялся заслужить повышеніе заработной платы, чтобы жениться.
Бдный М_е_н_у_т_ъ! Вс товарищи, отличавшіеся инстинктивною льстивостью трусовъ, приходили въ восторгъ отъ остротъ и насмшекъ, которыя Тоно позволялъ себ по его адресу. Одваясь по окончаніи работы, М_е_н_у_т_ъ находилъ въ карманахъ платья разныя вонючія вещества; часто получалъ онъ отъ Тоно въ лицо комки тста, а, когда тотъ проходилъ мимо него, то неизмнно хлопалъ его по согнувшемуся спинному хребету своею тяжелою лапою съ такою силою, что зданіе могло бы, кажется, рухнуть отъ сотрясенія.
М_е_н_у_т_ъ покорно молчалъ. Онъ былъ такъ слабъ передъ кулаками этого животнаго, забавлявшагося имъ.
Однажды въ воскресенье вечеромъ Тоно явился въ пекарню въ очень веселомъ настроеніи. Онъ побывалъ днемъ въ трактир на берегу; глаза его были налиты кровью, а изо рта сильно пахло виномъ.
Онъ принесъ крупную новость. Онъ видлъ въ трактир М_е_н_у_т_а съ невстою — рослою двкою. Этотъ чахоточный червякъ сумлъ прекрасно выбрать себ невсту; у него, видно, губа не дура.
И Тоно сталъ описывать бдную двушку, среди хохота товарищей, съ такими подробностями, точно онъ раздвалъ ее взглядомъ.
М_е_н_у_т_ъ не поднималъ головы надъ работою, но былъ блденъ, какъ будто трактирная закуска лежала въ его желудк тяжелымъ камнемъ. Онъ тоже былъ въ эту ночь не такой, какъ въ другіе дни; отъ него тоже пахло виномъ, и глаза его нсколько разъ отрывались отъ тста и встрчались съ косымъ и хитрымъ взглядомъ тирана. О немъ самомъ Тоно могъ говорить все, что угодно. Онъ привыкъ къ его насмшкамъ. Но говорить такъ о его невст?… Боже мой!..
Работа подвигалась въ эту ночь медленно и съ трудомъ. Часы проходили, а отяжелвшія и уставшія отъ попойки руки не могли справиться съ тстомъ.