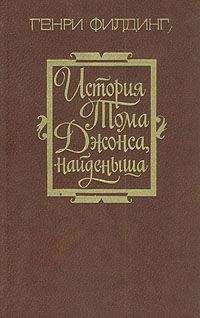— Сохрани боже, чтобы из моих уст исходили когда-нибудь такие скверные слова!
Том, в противность всем судебным формальностям, отвечал на возражение повторением брани Блайфила. Тогда последний сказал:
— Не удивительно. Кто раз соврал, тот не посовестится соврать другой раз. Если бы я сказал моему учителю такую гадкую небылицу, как ты, я стыдился бы показаться на глаза людям.
— Какую небылицу, мой мальчик? — нетерпеливо спросил Тваком.
— Да как же, он сказал вам, что с ним никого не было на охоте, когда он застрелил куропатку; а он знает (тут Блайфил залился слезами), да, он знает, сам же мне в этом признался, что с ним был сторож Черный Джордж. И больше того, он сказал, — да, ты сказал, посмей-ка отрицать! — что ни за что не признаешься в этом учителю, хотя бы он тебя на куски изрезал.
При этих словах глаза Твакома засверкали, и он торжествующе воскликнул:
— Ого! Так вот она, ваша ложно понятая честь! Вот какого мальчишку нельзя было выпороть еще раз!
Но мистер Олверти обратился к юноше с более приветливым видом, спросив:
— Это правда, мой мальчик? Как же это ты дошел до такого упорства во лжи?
Джонс отвечал, что он презирает ложь не меньше всякого другого; но он считал, что честь обязывала его поступить так, как он поступил, ибо он обещал бедняге не выдавать его; тем более, он чувствовал себя обязанным молчать, продолжал он, что сторож уговаривал его не ходить на чужую землю и пошел туда сам только в угоду ему. Вот вся правда, как было дело, и он готов подтвердить свои слова присягой. И Джонс закончил свою речь горячей просьбой к мистеру Олверти пожалеть семью бедного сторожа, особенно принимая во внимание то, что он, Джонс, один был виноват, а сторож с большой неохотой согласился сделать то, что он сделал.
— Право же, сэр, — говорил он, — едва ли мое показание можно назвать ложью, потому что бедняк совершенно неповинен во всем случившемся. Я все равно пошел бы один за птицами, — я даже и пошел один, и он только последовал за мной, чтобы я не наделал еще большей беды. Пожалуйста, сэр, накажите меня, отберите у меня лошадку, но прошу вас, сэр, простите бедного Джорджа.
После недолгого колебания мистер Олверти отпустил мальчиков, посоветовав им жить дружнее и миролюбивее.
Глава V
Мнения богослова и философа о своих воспитанниках; несколько оснований для этих мнений и другие предметы
Очень может статься, что, выдав тайну, сообщенную ему весьма конфиденциально, молодой Блайфил избавил своего товарища от хорошей порки, ибо и окровавленного носа было довольно для Твакома, чтобы взяться за розгу; но эту провинность теперь совершенно заслонил другой поступок; а касательно этого поступка мистер Олверти заявил Твакому с глазу на глаз, что, по его мнению, мальчик заслуживает скорее награды, чем наказания, и, таким образом, помилование остановило карающую руку богослова.
Тваком, все помыслы которого были наполнены березовыми прутьями, громко порицал эту снисходительность, решаясь назвать ее слабостью и даже безнравственностью. Оставлять такие преступления безнаказанными, говорил он, значит поощрять их. Он долго распространялся о пользе наказания детей, приведя много изречений из Соломона и других; так как изречения эти можно найти во множестве книг, то мы не станем их повторять здесь. Потом он обратился к пороку лжи, обнаружив в этом предмете такую же осведомленность, как и в прочих.
Сквейр сказал, что он пробовал согласить поведение Тома с идеей совершенной добродетели, но ему это не удалось. Он признался, что, на первый взгляд, в поступке Джонса есть нечто похожее на мужественную силу; но так как мужество — добродетель, а лживость — порок, то они ни в коем случае не могут быть примирены или соединены. В заключение он заметил, что так как поступок Джонса является в некоторой мере смешением добродетели и порока, то мистеру Твакому следовало бы подумать, не заслуживает ли его воспитанник по этому случаю суровейшего наказания.
Если оба ученые мужа единодушно осудили Джонса, то с не меньшим единодушием они одобрили молодого Блайфила. Разоблачение истины, по утверждению священника, было долгом каждого религиозного человека, а по заявлению философа — совершенно согласно с законом справедливости и нерушимой вечной гармонией вещей.
Все это, однако, имело очень мало веса в глазах мистера Олверти. Его так и не удалось уговорить подписать приказ об экзекуции над Джонсом. В груди его жило чувство, которому стойкая верность, проявленная юношей, была гораздо ближе, чем религия Твакома или добродетель Сквейра. Поэтому он настрого приказал первому из этих господ воздержаться от расправы над Томом за прошлое. Педагог принужден был повиноваться приказаниям Олверти, хоть и с большой неохотой, ворча, что мальчика положительно портят.
С полевым сторожем сквайр поступил суровее. Он тотчас же призвал беднягу к себе, долго ему выговаривал в резких выражениях, заплатил жалованье и уволил со службы; мистер Олверти справедливо заметил, что солгать для оправдания себя и солгать для оправдания другого — большая разница. Но главной причиной его непреклонной суровости по отношению к этому человеку было то, что ради своей выгоды он проявил низость, допустив, чтобы Тома Джонса подвергли такому тяжелому наказанию, между тем как мог предотвратить его добровольным признанием.
Когда эта история получила огласку, многие оценили поведение юношей в день их ссоры совсем иначе, чем Сквейр и Тваком. Молодого Блайфила в один голос называли подлым доносчиком, мерзавцем, трусом и тому подобными эпитетами, тогда как Том почтен был лестными именами славного малого, веселого парня честной души. Поступок с Черным Джорджем очень расположил к нему всех слуг, правда, полевого сторожа раньше никто не любил, но едва только его прогнали, как все начали жалеть его, все с величайшими похвалами прославляли дружбу и благородство Тома Джонса и совершенно открыто осуждали молодого Блайфила, остерегаясь только прогневить его мать. Однако за все это бедный Том платился телесной болью; ибо хоть Твакому и было запрещено пускать в ход свои руки, но, как говорит пословица, «найти сучок в лесу нетрудно». Так точно нетрудно было найти розгу; а только совершенная невозможность найти ее удержала бы Твакома сколько-нибудь продолжительное время от порки бедного Джонса.
Если бы единственным побуждением педагога было чистое наслаждение искусством, то, по всей вероятности, Блайфил тоже получал бы свою долю, но, несмотря на неоднократные приказания мистера Олверти не делать никакого различия между мальчиками, Тваком был столь же любезен и ласков с его племянником, сколько груб и даже жесток с Джонсом. Сказать правду, Блайфил вполне заслужил любовь своего наставника — частью тем, что свидетельствовал ему всегда глубокое уважение, а еще больше скромной почтительностью, с которой он принимал его учение. Блайфил знал наизусть и часто повторял его фразы и отстаивал религиозные убеждения своего учителя с жаром, прямо-таки удивительным в таком молодом человеке и снискавшим большое благоволение к нему достойного наставника.
С другой стороны, Том Джонс был не только нерачителен по части внешних знаков почтения, часто забывая снять шляпу или поклониться при встрече с учителем, но относился также без всякого внимания к его наставлениям и примеру. Это был беззаботный, ветреный юноша с очень вольными манерами и без всякой маски на лице; часто он самым бесстыдным и неприличным образом смеялся над степенностью своего товарища.
По этим же самым причинам и мистер Сквейр отдавал предпочтение Блайфилу, ибо Том Джонс так же неуважительно относился к ученым рассуждениям этого джентльмена, когда тому случалось расточать их пред ним, как и к поучениям Твакома. Однажды он решился подшутить над законом справедливости, а в другой раз сказал, что, по его мнению, ни один закон в мире не способен создать такого человека, как его отец (мистер Олверти позволял ему называть себя этим именем).
Молодой Блайфил, напротив, имел в шестнадцать лет довольно ловкости для того, чтобы одновременно вкрасться в милость обоих этих непохожих друг на друга людей. С одним он был — весь религия, с другим — весь добродетель. А когда они оба были возле него, он хранил глубокое молчание, которое каждый из них истолковывал в его и свою пользу.
Блайфил не довольствовался лестью в глаза обоим этим джентльменам, он пользовался всяким случаем хвалить их Олверти в их отсутствие. Когда он бывал наедине с дядей и дядя одобрял какую-нибудь религиозную или моральную сентенцию (а Блайфил постоянно сыпал ими), он почти всегда приписывал ее добрым наставлениям Твакома и Сквейра. Он знал, что дядя передаст все эти отзывы лицам, для которых они были предназначены, и убедился на опыте в том, какое сильное впечатление они производят как на философа, так и на богослова. И точно: нет лести неотразимее той, что передается из вторых рук.