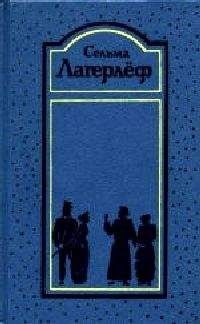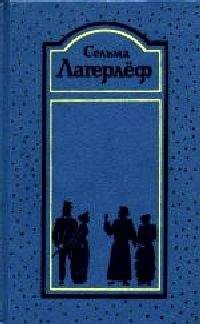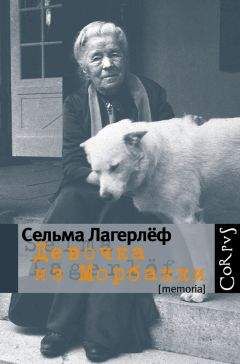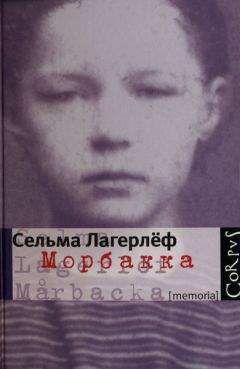Карл-Артур продолжал сидеть молча. За последнее время он привык к своему убогому образу жизни. С детьми они были теперь добрыми друзьями. Ему казалось, что с его стороны все же будет трусостью отослать детей, не довести борьбу до конца.
— Скажи наконец что-нибудь! — молила фру Сундлер. — Ведь я должна знать, чего ты хочешь. Матушка Пер-Эр может войти сюда в любую минуту. Ну, хоть намекни!
Он рассмеялся. Разве можно было ждать другого ответа! Когда Тея говорила ему все это, он чувствовал, как ломаются оковы, как тает лед, как звучат песни свободы.
И тут он сделал то, чего не делал никогда. Он наклонился, обхватил Тею руками и в порыве бесконечной благодарности поцеловал эту маленькую безобразную женщину прямо в губы.
II
Да кто она такая, чтобы судить собственного мужа, который знает куда больше, чем она, который умеет проповедовать слово божье и наставлять на путь истинный несчастных заблудших грешников? Видно, ей остается только верить, что он и на сей раз прав, что позволил увезти детей. Позднее, поразмыслив обо всем, она поняла, что мужу ее нельзя было поступить иначе. Ведь это родной дядя приехал забрать ребятишек. Кабы их дядя был бедняком, то дело иное, но раз он теперь живет в достатке, раз у него своя усадьба, добрая жена, а детей нет, так мог ли Карл-Артур не дать ему увезти племянников к себе домой?
Сперва она только и думала, что человек этот всего-навсего обманщик, что он хочет сманить от нее детей. Однако двое старших признали его, припомнили его и другие люди на деревне. Просто раньше никто не знал, что ему так повезло. Ведь когда он уезжал из Корсчюрки, то был не богаче своего брата.
Приход, в котором жил этот дядюшка, был где-то далеко на севере, поэтому нечего и удивляться, что он не слыхал про то, что Матс-торпарь помер, а дети его живут в чужих людях. Когда же он узнал все как есть, то тут же отправился в Корсчюрку предложить всем десятерым ребятишкам поселиться у него в богатом доме.
Доброе дело сделал он. Она должна была поверить, что он человек достойный. Ни она, ни кто другой на свете не могли осудить ее мужа за то, что он позволил детям уехать с дядей.
Карл-Артур ни на чем не настаивал. Однако он так красиво говорил о том, что это само провидение привело к ним незнакомого человека, чтобы облегчить тяжкое бремя, которое им приходилось нести, в особенности ей, разумеется. Он растолковывал ей, что теперь, когда у нее в середине лета будет свой ребенок, она не сможет работать на них на всех, как прежде.
Она полагала, что он прав, и сама была в нерешительности, не зная, чего она хочет. Речи о боге сбили ее с толку. Ребятишки были такие славные. Может, богу было угодно, чтобы им жилось лучше, чем у нее. И Карлу-Артуру, видно, приходилось не сладко, хуже, чем она думала. И все же, слушая его, она понимала, что он говорит все эти красивые слова только ради того, чтобы уговорить ее отослать детей.
Просто удивительно, как мало были дети опечалены тем, что покидают ее. Они ведь уедут далеко и увидят много нового. У дяди есть лошади и коровы, поросята и куры, они будут ходить за ними и задавать им корм. А еще у него есть собака, она умеет благодарить за еду и передразнивать пономаря — показывать, как он затягивает псалом в церкви. Дети, верно, никогда не думали, что им выпадет такое счастье — услышать, как собака распевает псалмы.
Когда они уехали, она уселась на шаткий камешек возле дома и сидела так долго-долго. Ей не было ни до чего дела. Уже несколько лет ей не доводилось сидеть вот так неподвижно, сложа руки, разве что по воскресеньям, да и то не всегда. Она сказала себе, что ей бы надо радоваться, — ведь наконец-то она могла хоть немного отдохнуть.
К ней подошел муж. Он сел рядом с ней, совсем близко, взял ее за руку и стал говорить, как они теперь будут счастливы. Он считал, что дети были ниспосланы им как испытание, и то, что теперь их взяли от них, было знамением божьим: видно, Господь был доволен тем, что они сделали для этих малюток.
Она знала, что она — ничто в сравнении с ним, что она ничего не смыслит в знамениях господних, что она даже грамоте не сумела выучиться, но все же она рассердилась на него. Она ответила, что дети были ниспосланы ей божьей милостью и что, видно, она в чем-то провинилась, раз их отобрали у нее.
Услышав ее ответ, муж поднялся и ушел, не сказав ни слова. А она не окликнула его и вовсе не раскаялась в своих словах. Она была словно сосуд, наполненный горькой желчью. Нелегко было прикоснуться к ней, не расплескав эту горечь через край.
Она знала, что ей надо было идти в кухню, убраться и вынести вещи ребятишек, но боялась войти туда. Боялась огромной пустоты, которая встретит ее.
Теперь она будет чувствовать себя такой же беспомощной и покинутой, как в первые дни после замужества, пока она не взяла к себе детей. С ними ей было хорошо и спокойно. Ведь надо же быть такой дурой, чтобы позволить кому-то отобрать у нее детей!
Она сидела, а перед глазами у нее стояла телега, на которой их увезли. Ребятишки погрузили на нее узелки с одеждой и прочий скарб, который мог им пригодиться. Младшие поехали на телеге, старшие пошли с дядей пешком. Дядя засмеялся и сказал, что люди примут их за цыган: ведь цыгане ездят обыкновенно с ребятишками да с узлами.
Удивительно, как легко дети простились с ней. Они только и думали про повозку, про лошадь и про то, что они возьмут с собой. Больше всего они жалели, что котенок не хотел ехать с ними. Они ни слезинки не проронили. Да и сама она тоже не плакала. Но едва они уехали, как ей стало страшно. Ей представлялось лицо их дяди. Может, он вовсе и не такой кроткий и добросердечный, каким прикидывался у них в доме. Он, верно, двоедушный, злой и жадный. Детям у него придется несладко.
Она приняла это как нечто совершенно очевидное, в чем нельзя и сомневаться. Она ведь сразу хотела побежать им вслед и воротить их, да тогда она не успела еще прийти в себя. И зачем только она не сделала этого, покуда еще было время. Теперь мысль о том, что дети будут голодать и холодать, не давала ей покоя.
Дело уже шло к весне. Снег стаял, и солнце светило тепло и ласково. Дети могли бы скоро перебраться в свой дом, и Карлу-Артуру было бы не так трудно.
Она пыталась подбодрить себя, думая о том, что теперь ей придется стряпать только на одного. К тому же не надо будет сидеть до полуночи и штопать дырявые чулки.
Кабы только ей знать, что им станут штопать чулки там, куда они сейчас едут! Кабы знать, что им будет велено читать молитвы по вечерам! Меньшая-то ужас как боится темноты. Кабы только знать, что кто-то станет о ней заботиться! Ведь ей всего-навсего шесть годков, и она нипочем не заснет, если никто не будет сидеть с ней рядом и держать ее за руку!
В течение нескольких дней после того, как Анна позволила детям уехать, она чувствовала себя такой беспомощной и так сильно каялась, что не в силах была даже прибрать в избе за детьми. Она была уверена, что дети терпят у своей родни нужду и побои и что с нее и мужа строго спросится за то, что они позволили детям уехать к худым людям.
Мысль о том преследовала ее помимо ее воли, словно лихорадка. Она пыталась с этим бороться, но не могла. У нее не было ровно никакого повода так тревожиться, однако она не могла избавиться от мысли, что дядя, забравший детей, человек злой и опасный — по лицу угадать можно, — жена же его, о которой она ничего не знала, представлялась ей сущей ведьмой. Она уверилась в том, что кара прежде всего падет на голову младенца, которого она ждала. Он родится на свет либо уродцем, либо слепым и глухим. А может быть, Анна помрет родами, и дитя ее будет расти сиротой.
Говорить о том с Карлом-Артуром не было толку. Он и слушать ее не хотел, когда она говорила, что дети, верно, терпят нужду и что их самих Бог накажет. Он был с ней, правда, ласков, однако все ее страхи считал пустыми, и ей пришлось самой справляться с ними.
Однажды утром Анна решила, что нашла средство для исцеления. Она принялась выносить из кухни кросно, прялки и прочий инструмент. Скамью и диванчики, принадлежавшие ребятишкам, она внесла к ним в дом и заперла там. Потом она выскоблила пол, промазала стены свежей клеевой краской, вымыла и высушила все в доме и вскоре уже сидела в кухне, такой же прибранной, чистой и пустой, какой она была в тот день, когда Анна в первый раз переступила ее порог.
Когда она убрала все, что наводило ее на мысль об ораве ребятишек, то сказала себе, что надо постараться представить себе, будто все идет, как в первые дни ее замужества. Детей здесь никогда и не было, ей это просто приснилось. Если ей удастся уверить себя в том, что они и вправду никогда не жили у нее в доме, все будет хорошо. Ведь ни один человек не станет горевать и убиваться из-за того, что ему приснилось.
— Будто ты не знаешь, что молодые жены как выйдут замуж, так только и знают, что сидят да думают о своих мужьях, — пробормотала она про себя. — Берись за пряжу да за спицы и свяжи ему пару рукавиц, то-то будет работа по сердцу! Думай лишь о том, что ты теперь пасторша, что тебя возвысили надо всеми другими коробейницами!