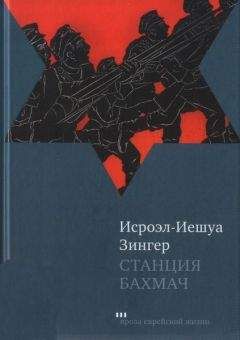— Мне понятно, когда человек — крестьянин, доктор, писарь в канцелярии, — спокойно сказал он, — о писаре историй я не слыхал и не понимаю, для чего тут марать бумагу.
После этого он приказал красноармейцу идти на свое место, а сам сел за стол, спокойно снял с чернильницы засохших мух, обмакнул старое перо и с большим трудом вывел на мятом клочке бумаги неуклюжие и безграмотные слова о том, что я могу уехать и имею право на место в поезде. Потом он плюнул на высохшую печать и поставил смазанный оттиск на мятой бумажке.
— Жарко, товарищи, — проворчал он, потея от тяжких усилий, потраченных на писание.
Неделю я проторчал на станции за местечком, ожидая поезда. Время от времени через нее проходили поезда, но ни в один из них меня не пустили, несмотря на то что я показывал свою бумажку с печатью. Это были военные поезда: в бесчисленных вагонах везли имущество, эвакуированное с территорий, которым угрожала война. Однажды подошел поезд, полный грузов и пассажиров. Я тут же забрался на крышу теплушки, где еще можно было приткнуться. Сидя на залитой солнцем жести, я смотрел вперед, чтобы не удариться о свод тоннеля или другое препятствие, от которого можно было стать на голову короче.
Поезд был длинный, набитый пассажирами всех мастей, во многих вагонах везли скот, уголь, сено. Куда идет поезд, никто не знал. Дороги были запружены, пути заняты военными поездами. Местами были взорваны рельсы и мосты, выдернуты шпалы.
— Поедем, когда сможем и куда получится, — зло отвечали железнодорожники пассажирам, которые, не переставая, лезли к ним с вопросами.
Я просидел ночь на крыше поезда, который был готов отправиться в любую минуту, как только освободится путь. Наконец мы поехали. Но это было путешествие, во время которого приходилось больше стоять, чем ехать. То заканчивался уголь для паровоза, и пассажирам приходилось рубить деревья и пилить их на чурки, чтобы растопить топку, то загорались несмазанные вовремя оси вагонных колес, то что-нибудь ломалось в машине старого паровоза. Он делал все, что мог, этот паровоз, он все время свистел, дымил, выбрасывал целые столбы огня и искр, вонял, пыхтел, кряхтел, но бежать не бежал. Один раз машинист даже бросил поезд посреди дороги и отправился в деревню к знакомым крестьянам пить чай.
Вернулся он не меньше чем через час. По тому, как он ковылял, можно было уверенно заключить, что пил он не чай, а водку военного времени — сивуху, которую гнали крестьяне. Только от этого самогона можно было быть таким мертвецки пьяным, каким был машинист. Сразу же наш поезд заковылял, как человек, который его вел. В одном месте поезд разорвался — одна половина, с паровозом, ушла вперед, другая половина, оторвавшаяся, побежала назад. Я был в последней. К счастью, местность была равнинная, и оторвавшиеся вагоны остановились после того, как потеряли инерцию. Мы были уверены, что пьяный машинист бросит нас посреди дороги, но он подогнал паровоз обратно, прицепил нас старыми разболтанными крюками и снова пустился в путь.
Часы, дни, целые ночи простаивали мы на заброшенных станциях, нередко — в чистом поле и ждали. Мы не знали, чего ждем, когда поедем, как поедем. Мои соседи по крыше, люди со множеством узлов, связанных вместе, рассказывали о бандах, которые взрывают рельсы, нападают на поезда, отрезают носы и уши евреям и комиссарам, и о тому подобных радостных вещах…
Странный был народ, эти мои соседи по крыше. Из-за того что на них были солдатские гимнастерки, сапоги, штаны и фуражки, но не было знаков различия, невозможно было понять наверняка, что это за солдаты: то ли советские, то ли наоборот. С тем же успехом они могли быть и дезертирами, и демобилизованными, еще не снявшими форму после войны, а может, они просто носили военную форму, как большинство мужчин после революции. Один из них, пройдоха, знавший все дороги, все обычаи и правила, все маршруты всех поездов, которые сами не знали своих маршрутов, постоянно рассказывал язвительные истории и анекдоты о советских комиссарах и служащих, которые у него все были евреями. Народ покатывался от его историй и рассказов. Устав говорить, он начинал играть на гитаре и петь военные песни. Чаще других он пел песню о яблочке, которое катится в Чека. Народ вокруг него с душой подхватывал эту песенку, в которой, судя по всему, слышал намек на свою жизнь.
Эх ты, яблочко, куда ты котишься,
Попадешь в Чека, больше не воротишься…
Еще больше, чем «Яблочком», парень с гитарой радовал едущих на крыше песенкой о веселой свадьбе комиссара Шнеерсона. Эта веселая песенка распространялась по стране, как сорная трава по пустырю. В этой песенке перечислялась в рифму вся родня, которая пришла потанцевать на свадьбе Шнеерсона и его невесты Сары. Пришел комиссар Лейб, который конфискует у крестьян хлеб; пришла тетя Бела из финотдела; пришли комиссар продовольствия Воробейчик и комиссар путей сообщения Соловейчик, а также комиссарша Злата и два ее брата… Парень с гитарой очень комично выговаривал по-русски имена еврейских родственников, и все, кто был на крыше, хлопали в ладоши и притоптывали ногами в такт:
Ужасно шумно в доме Шнеерсона…
При этом они озорно заглядывали мне в глаза и хотели знать, почему я не подпеваю. Ночью, когда все ложились плашмя на крышу, чтобы в темноте не удариться о препятствие, мои соседи сбивались в кучу, курили самокрутки и рассказывали одну за другой истории, всё больше о бандах, которые останавливают поезда и отрезают носы и уши у комиссаров и евреев.
После одной из таких ночей я приехал поутру на станцию Бахмач.
Лежала ли эта станция на пути в освобожденный Киев, куда должен был следовать поезд, или нам пришлось проехать через нее, потому что другой дороги не было, — не помню. Я бы не запомнил и странного названия «Бахмач», как не запомнил названия большинства других станций с подобными названиями, через которые мы проехали, вроде какой-нибудь Кочубеевки, если бы в этом Бахмаче не произошел исключительно любопытный случай.
На довольно большом расстоянии от здания вокзала станции Бахмач, как раз у штабелей железнодорожных шпал, заброшенных складов и будок, толпа людей, вооруженных винтовками, преградила дорогу нашему поезду и приказала остановиться. Еле ползущему паровозу ничего не стоило затормозить. Сперва мы не знали, кто эти вооруженные люди. Все вооруженные люди того времени, и те, кто служил революции, и ее враги, носили одинаковые рваные сапоги или лапти, одинаковые ватные штаны, фуфайки и потрепанные фуражки, что зимой, что летом; одинаковые винтовки висели у них за плечом на веревке. Парень с гитарой ненадолго приложил руку козырьком к глазам и предрек, что это, должно быть, «орлята» батьки Махно. Его соседи стали зловеще поглядывать на меня. Вскоре парень разглядел отблеск золотой звезды на черной груди предводителя и забеспокоился.
— Братцы, православные, это карательная экспедиция против контрабандистов, — со злобой известил он.
Православные братцы тут же принялись шарить по своим узлам, в который раз завязывая и перевязывая их. Отблеск золотой звезды становился все ближе и ближе. Вскоре можно было разглядеть в полный рост ее владельца. Он был в коже с головы до пят. Фуражка, куртка, зад штанов — все было из настоящей черной кожи. Первые лучи восходящего солнца весело играли со звездой, вышитой золотом на черной кожаной куртке комиссара, и с маузером без кобуры, заткнутым за ремень. Парень с гитарой бросил на комиссара один взгляд и махнул рукой своим людям.
— Братцы, православные, дело дрянь, — сказал он, — в кожанке-то — «тартарин».
Так в ту пору называли евреев, вероятно, из-за гортанного выговора в русском, что для гойского уха звучало как «тар-тар»…
Вся компания снова принялись таскать туда-сюда свои узлы, завязывать и перевязывать их. Комиссар в кожанке надвинул свою тесную фуражку на голову, растрепав копну густых черных кудрей. Затем он смерил поезд своими яркими большими черными глазами и громко крикнул:
— Товарищи, вылезай из поезда! Со всеми пожитками!
«Эр» в этом его «товарищи» было мягким, гортанным, точно таким же, какое парень с гитарой передразнивал в своей песенке о родне на свадьбе комиссара Шнеерсона. Насколько преувеличенным был его еврейский акцент, настолько же преувеличенно еврейской была его внешность. Нос большой и крючковатый, как у хищной птицы; брови — густые и сросшиеся; губы — красные, полные и чувственные; цвет мясистого загорелого и обветренного лица — темно-коричневый. Но самыми еврейскими были его глаза, большие, угольно-черные, в резко очерченной оправе ресниц и бровей. Однако ни крошки печали не было в этих черных еврейских глазах; они смеялись, купались в радости. Полсотни его солдат походили как две капли воды на всех русских вооруженных крестьян — бесцветные, серые, безразличные. Их серые шинели были измяты и полны вшей, но ручные гранаты оттягивали ремни на бедра.