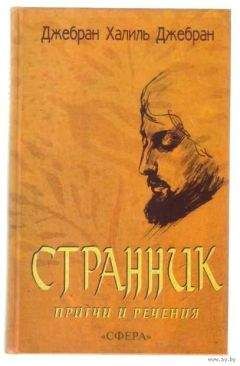Наджиб. Значит ли это, госпожа, что во всяком воображении есть истина и во всяком представлении – знание?
Аль-Алявийя. Истинно так. Зеркало души не может, даже если б захотело, отобразить то, чего нет пред ним. Тихое озеро не может, даже если бы захотело, явить тебе в своих глубинах гряды гор, узоры древесных куп и очертания облаков, которых нет в действительности. Частицы духа не возвращают тебе отзвуки голосов, которые в действительности не разносились в эфире, и даже если бы захотели – не смогли бы. Свет не отбрасывает тень того, чего нет, и даже если бы захотел – не смог бы. Вера во что-либо есть знание этого чего-либо. Верующий видит духовным оком то, чего не видят глаза исследователей и изыскателей, и постигает своей сокровенной мыслью то, что бессильны постичь они своей благоприобретенной мыслью. Верующий испытывает святые истины чувствами, отличными от тех чувств, коими пользуются все прочие, и полагает, что истины эти – стена неприступная, и идет своим путем, говоря: «Нет ворот, ведущих в этот город».
Аль-Алявийя встает, подходит ближе к Наджибу и, давая понять, что беседа их близится к концу, говорит.
Аль-Алявийя. Воистину, верующий живет все дни и все ночи, а неверующий – лишь считанные мгновения. Как тесна жизнь для того, кто ставит руку между своим лицом и всем миром и не видит ничего, кроме линий на ладони. Как велика моя жалость к тому, кто поворачивается спиной к солнцу и не видит ничего, кроме тени своего тела на земле.
Наджиб (подымается, чувствуя, что настал срок уходить). Госпожа, могу ли я сказать людям, когда вернусь к ним, что Ирам Многоколонный – город духовных сновидений и что Амина аль-Алявийя шла к нему дорогой неодолимого желания и вступила в него через врата веры?
Аль-Алявийя. Скажи, что Ирам Многоколонный – град подлинный, что он существует так же, как горы, леса, моря и пустыни. Скажи, что Амина аль-Алявийя достигла его, пройдя через безжизненную пустыню, познав муки голода и жгучую жажду, тоску одиночества и ужас уединения. Скажи, что древние исполины выстроили Ирам Многоколонный из кристаллизовавшихся и овеществившихся частиц существования и не скрыли его от людей, но сами люди скрыли от него свои души. Тот, кто сбивается с пути, ведущего к нему, пусть лучше сетует на своего вожатого и погонщика каравана, но не на тяготы и лишения, ожидающие его в пути. И скажи еще людям: «Кто не зажигает светильник свой, тот не видит во тьме ничего, кроме тьмы». (Подымает взор к небу, закрывает глаза и на лицо ее ложится покров блаженства.)
Наджиб (подходит к ней, склонив голову, и какое-то время в молчании стоит пред нею, потом целует ее руку и шепотом говорит). Солнце заходит и мне пора вернуться к людским жилищам, пока мрак не окутал путь.
Аль-Алявийя. Ступай при свете, ступай и да хранит тебя Аллах!
Наджиб. Я пойду при свете факела, который ты вложила в мою руку, госпожа.
Аль-Алявийя. Иди при свете истины, который не погасить ветрам.
Она долго смотрит на него взором, лучащимся материнской любовью, потом поворачивается и скрывается в глубине рощи.
Зейн аль-Абидин (подходит к Наджибу). Куда ты теперь держишь путь?
Наджиб. К друзьям – их дом стоит неподалеку от истока Оронта.
Зейн аль-Абидин. Не возражаешь, если я провожу тебя?
Наджиб. Буду очень рад; признаться, я думал, что ты всегда находишься подле Амины аль-Алявийи, и благоговел перед тобою, мечтая быть на твоем месте.
Зейн аль-Абидин . Мы живем при свете солнца вдали от него, но кто из нас смог бы жить на Солнце? (Таинственно.) Каждую неделю я прихожу за благословением и советом, а когда спускается вечер, трогаюсь в обратный путь умиротворенный и довольный.
Наджиб. Как бы я хотел, чтобы все люди приходили раз в неделю испросить благословения и совета и возвращались с миром и покоем.
Наджиб отвязывает поводья от дерева и, ведя коня под уздцы, удаляется вместе с Зейн аль-Абидином.
Аль-Мустафа, избранный и возлюбленный, заря своего дня, двенадцать лет ждал в городе Орфалесе[55] возвращения корабля, который должен был увезти его на остров, где он родился.
На двенадцатый год, в седьмой день Айлула[56], месяца урожая, он поднялся на холм, лежащий за стенами города, обратил взор к морю и заметил свой корабль, приближающийся вместе с туманом.
Тогда распахнулись врата его сердца, и радость его полетела далеко над морем. Он закрыл глаза и молился в тишине своей души.
Но только сошел он с холма, как его охватила немая грусть, и подумал он в сердце своем:
«Как уйти мне с миром и без печали? Нет, не оставить мне этот город, не поранив дух.
Долгими были дни страданий, проведенные в этих стенах, и долгими были одинокие ночи; а кто может расстаться со страданием и одиночеством без сожаления?
Много крупиц духа рассеял я по этим улицам, и много детей моей тоски бродят нагие меж этих холмов, – и я не могу отказаться от них легко и без боли.
Не одежду сбрасываю я сегодня, а собственными руками сдираю с себя кожу.
И не мысль я оставляю после себя, а сердце, умягченное голодом и жаждой.
Нельзя мне более медлить. Море, зовущее к себе все сущее, зовет и меня, и я должен отплыть. Ибо остаться – значит замерзнуть, заледенеть, сделаться застывшим слепком, хотя часы ночные и пламенны.
Хотел бы я взять с собою все. Но как?
Голос не может взять с собой язык и губы, давшие ему крылья. Он должен устремляться в эфир один.
И орел один летит к солнцу, оставив в скалах родное гнездо».
Дойдя до подножия холма, он вновь обернулся к морю и увидел, что его корабль приближается к берегу, а на палубе корабля моряки – сыновья его земли.
И воззвала к ним его душа, и он сказал: – Сыновья праматери моей, вы, оседлавшие гребни волн.
Сколько раз вы приплывали в моих снах. Вот вы пришли, когда я пробудился, и это пробуждение – мой самый глубокий сон.
Я готов пуститься в плаванье, и мое нетерпение, подняв все паруса, ждет ветра.
Лишь глотну этого спокойного воздуха, взгляну с любовью назад – и встану среди вас, мореплаватель среди мореплавателей.
О бескрайнее море, дремлющая мать, только в тебе находят мир и свободу река и ручей.
Лишь один поворот сделает этот ручей, лишь еще один его всплеск раздастся на этой поляне – и я вольюсь в тебя, беспредельная капля в беспредельный океан.
Он шел и видел издали мужчин и женщин, спешивших к городским воротам со своих полей и виноградников.
Он слышал, как их голоса выкликают его имя и от поля к полю возвещают друг другу о приходе его корабля.
И сказал он себе:
– Будет ли день расставанья днем жатвы? Скажут ли, что вечер мой воистину был моей зарей?
Что дать мне тому, кто бросил свой лемех посреди борозды, и тому, кто оставил невыжатый виноград в точилах?
Станет ли мое сердце плодоносным деревом, чтобы я собрал плоды и дал им?
Будут ли желания кипеть во мне ключом, чтобы я наполнил их чаши?
Разве я арфа, чтобы рука Могущественного коснулась меня, разве я флейта, чтобы Его дыхание излилось сквозь меня?
Я искал тишины, но какое сокровище нашел я в ней, чтобы так смело раздавать его?
Если это день моего урожая, то какие поля и в какие незапамятные времена засеял я семенами?
Если воистину это час, когда я подымаю свой светильник, то не мое пламя будет гореть в нем.
Подыму я свой светильник пустой и темный.
А страж ночи наполнит его маслом и зажжет.
Так сказал он вслух. Но много неизреченного осталось в его сердце, ибо не мог он сам высказать глубокую тайну, ему одному ведомую.
Когда он вступил в город, весь народ вышел ему навстречу, и все приветствовали его в один голос.
Вышли вперед старейшины города и сказали:
– Не покидай нас. Ты был полуднем в наших сумерках, и твоя молодость даровала нам мечты.
Ты не чужой среди нас и не гость, а сын и возлюбленный наш. Не заставляй же наши глаза тосковать по твоему лику.
Жрецы и жрицы сказали ему: – Не дай волнам морским разлучить нас теперь и не дай, чтобы годы, которые ты провел средь нас, стали воспоминанием.
Ты блуждал средь нас, дух, и тень твоя озаряла светом наши лица.
Мы так любили тебя! Но молчалива и скрыта покровами была наша любовь.
А сейчас она громко взывает к тебе и открыто встает пред тобою.
Вечно было так, что глубина любви познается лишь в час разлуки.
Пришли другие и тоже просили его. Но никому не ответил он, а только склонил голову; и те, что стояли близ него, видели, как слезы капали ему на грудь.
Вместе с народом пошел он к большой площади перед храмом.