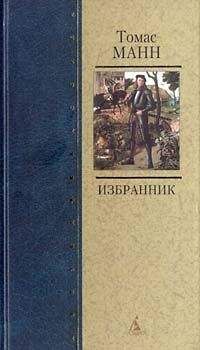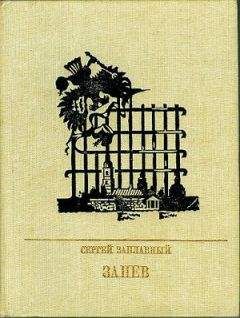Грудь ее учащенно вздымалась в корсаже платья, ниспадавшего от кушака широкими складками белоснежного бархата и окутанного пурпуром мантии, полу которой она подобрала у пояса своей прекрасной, худощавой рукой. Ее темно-синие глаза, подведенные тенями ночных бдений, глядели ему в глаза. Ей пришлось по душе, ее чем-то привлекало к себе это строгое, юное, но уже мужественно-решительное лицо. А ему чудилось, будто он воочию видит земную ипостась царицы небесной.
Она кротко спросила его:
– Вы явились ко мне с просьбой?
– Да, с одной-единственной, – отвечал он с восторженным пылом. – Я жажду быть вашим слугой, государыня! Возьмите меня в вассалы, прошу вас, и позвольте мне пожертвовать собой и всем своим достоянием, борясь против злодея Роже и сражаясь за вас, пока не погибну!
Она сказала:
– Я, рыцарь, слыхала о вас и о некоторых ваших достославных, но преждевременных и заслуживающих упрека деяниях. Говорят, вы смелее, чем следует быть. Вы знаете, на какую дерзкую диверсию я намекаю. Жива ли еще ваша мать?
– Я никогда ее не видел.
– В таком случае позвольте мне предостеречь вас вместо нее. Вы испытывали бога. Будь вы рассудительнее, вы не отважились бы на такой поступок.
– Государыня, подробности этой вылазки преувеличенно расписаны. Но зимний застой в любовной войне меня действительно злил. Я считал нужным вывести ее из затишья и, постращав обленившегося врага, показать ему, что в этом городе еще жив дух, который, если дело идет о вашей чести, не убоится и самых необыденных предприятий.
– Благодарю вас, хоть и не отказываюсь от своего предостережения. В смелости верных я, бедная женщина, увы, нуждаюсь. Но я не хочу, чтобы благородные юноши опрометчиво платились из-за меня своей жизнью. Обещайте мне больше так не поступать и впредь не давать воли кичливому легкомыслию.
То, что она назвала себя бедной женщиной, поразило его в самое сердце, и он тотчас же снова упал на колено, устремив к ней пылающее лицо.
– Обещаю вам повиноваться, государыня, насколько это позволит мне мое страстное желанье служить вам.
Она взяла у одного из окружавших ее рыцарей обнаженный меч и коснулась им плеча юноши.
– Будьте моим вассалом! Не поступаясь благоразумием, стяжайте себе славу в борьбе за наш город, за нашу поруганную страну! Стольник, я поручаю этого рыцаря вашей опеке.
Когда он, осчастливленный, поднялся, она еще раз взглянула на его платье, еще раз – на его лицо и спешно удалилась, окруженная свитой. А Григорс стоял, не сходя с места, самозабвенно глядя ей вслед, покуда староста, его гостеприимный хозяин, не потянул его за рукав. Такой женщины он никогда не видел и никогда не слыхал такого сладостно полнозвучного голоса, каким она властно вступилась за его молодость. Как чужды были ее облик и нрав его неопытности, но сколь же близки его природе!
С немым ужасом продолжая свой рассказ, я все-таки рад, что в вышеприведенной беседе с господином Пуатвином господин Фейрефиц пожелал удостовериться в истинности Грегорсова рыцарства, чем развязал старосте язык и заставил его подробнейше рассказать о дерзкой и одиночной вылазке своего гостя на крепостной мост. Иначе мы, наверно, так и не узнали бы об этом подвиге. Если даже сделать скидку на поэтические преувеличения, которые в пылу повествования допустил рассказчик и которые в общем-то можно легко простить человеку, не искушенному в правдивом изложении событий, – у нас все равно достаточно оснований признать, что рыцарские мечты монастырского школяра из рыбачьей хижины не были пустопорожней блажью и что язык рыцарских подвигов, каковым он, по его утверждению, внутренне владел, действительно слышался в его речах и поступках, хотя ему необходимо было практически усовершенствоваться в этом языке, прежде чем отважиться на то, что после первого же разговора со старшиной Пуатвином, и особенно после встречи с самой государыней, стало его твердым намереньем.
Если кто в простоте душевной и по несообразительности спросит меня, что же это было за намеренье, то пусть прислушается к отрывистым фразам, которые наедине с собой иногда бормотал Григорс. Например:
– Будь он хоть трижды грозен, я драться буду с ним.
Или:
– Сам дьявол мне не страшен – сразиться я готов.
Кого он имел в виду, это, наверно, ясно и недогадливому. Слушая его бормотанье, я, право же, радуюсь, что господь привел его в этот город зимой, когда наступило затишье в любовной войне. Таким образом, у Григорса оставалось время, чтобы усердно поупражняться в практическом (а не только внутреннем) применении рыцарского языка, тем более что зимняя кампания чуть ли не каждый день предоставляла ему такую возможность. Ибо небольшие приключенья, рыцарская перестрелка, схватки, конные и пешие, наполовину всерьез, наполовину забавы ради, случались у городской стены почти ежедневно, и он всегда в них участвовал, так что вскоре прослыл среди ополченцев, рыцарей и сервиентов «главой в погоне, хвостом в бегах». Я воспроизвожу их выраженье дословно. Мне оно кажется неуклюжим, как и другое – «град для врагов». Это, на мой взгляд, тоже не очень-то удачная метафора, но что поделать, если такие образы внушала им его tenue.
Лучше всего он чувствовал себя верхом на коне, ибо слишком часто и тщательно сжимал шенкеля, затягивал повода и выделывал вольты в мечтах, чтобы все это показалось ему незнакомым или невыполнимым в действительности. Это искусство было, как говорится, дано ему от природы, оно было заложено в нем, и он сразу же овладел им настолько, что никто не подумал бы, что доселе ему не случалось сидеть в седле. В конюшне господина Пуатвина стоял добрый конь, купленный на золото Григорса, жеребец с белой звездочкой на лбу, брабантской породы, с прекрасными, как у единорога, глазами, горячо преданный своему хозяину: когда тот к нему подходил, он тянулся к юноше лоснящейся шеей и звонко ржал от радости и ретивости, столь же пронзительно, как кричат петухи поутру. Звали его Ветерок. Мне самому нравится это ладное животное со светлым хвостом и такой же холкой и гривой; с похвалой упомяну еще об его крепких, тонких бабках и маленьких копытах. Шелку подобна была его шерсть, тщательно вычищенная скребницей, а под нею, играя, так и ходили сильные мышцы. Как красила Ветерка кольчужная попона из тонких и частых стальных колечек, которую конюх покрывал ковертюрой зеленого арабского ахмарди. Ковертюра свисала сзади до самых копыт, а слева и справа на ней была вышита рыба. Так скакал Григорс на своем любимом коне – все это было уже хорошо знакомо ему по его мечтам и благодаря его природным задаткам – в отличных латах, защищавших голову, туловище и ноги, с мечом на бедре, надев на руку лямку щита, – так, повторяю, часто скакал он на своем Ветерке вместе с другими витязями герцогини к городской стене, сопровождаемый повозкой, груженной турнирными, без острия, копьями. Ибо, поверьте мне, шутливость и взаимная полуприязнь сторон, столь свойственные этой любовной войне зимой, зашли так далеко, что горожане и осаждающие мирно состязались друг с другом во владении оружием, и рыцари госпожи Сибиллы, как и бургундские рыцари, на глазах друг у друга дрались на тупых ратовищах, отчасти для собственного увеселения, отчасти же для того, чтобы постращать противника своим кавалерийским и фехтовальным искусством. В этим боях Григорс снискал себе ту честь, о которой он с детства мечтал, и бурные похвалы врагов.
Я должен радоваться, что ему представились время и случай поупражняться наяву, ибо не могу не желать, чтобы намеренье, упорно и глухо запавшее в его душу, увенчалось удачей, хотя, как рассказчик, я вижу все наперед и знаю, какую несказанную, немыслимую беду сулила ему именно эта удача. Если бы я, в своем никому не доступном всевиденье, не мог заглянуть еще дальше, в самый конец, я должен был бы пожелать, чтобы наш мальчик, как мне его ни жаль, себе же на благо погиб, осуществляя задуманное, – и даже вопреки моему всеведенью я почти готов этого пожелать, хотя, с другой стороны, понимаю, что такое желанье бессмысленно, коль скоро я знаю, что было дальше, и должен рассказать эту историю так, как к вящей славе своей направил ее господь. Мне хочется только смиренно указать на противоречивость чувств, разрывающих душу повествователю подобной истории.
Ведь тяжкий грех, грех его рожденья, и старания смыть с себя это пятно толкнули юношу на еще более ужасный грех! Он подолгу читал свою дощечку, читал со слезами, поистине, он жил точно так же, как когда-то на острове: образец храбрости и величайшей собранности в рыцарских играх, он был вместе с тем печален и озабочен. Tristan le preux, lequel fut ne en tristesse[124], как, покачивая головой, говаривал господин Пуатвин, когда Григорс выходил из своей каморки с заплаканными глазами. Ибо юноша имел обыкновенье запираться там с заветной, бережно хранимой дощечкой, чтобы в сотый и тысячный раз прочитать о необыкновенных обстоятельствах своего рожденья: о том, что его мать приходится ему теткой, а его отец – дядей, что он является как бы их братом, которого они греховно, сроднив своего потомка с грехом и позором, произвели на свет. Его тело как будто и не отличалось от плоти других людей, оно было достаточно благообразно, и все же от головы до пят оно было детищем греха и позора. Злополучье его рожденья, вновь и вновь напоминавшее о себе письменами, вызывало у Григорса горькие слезы и всячески укрепляло юношу в его тайном намеренье. Он хотел поставить на карту свое молодое, насквозь греховное тело, рискнуть им в отчаянной жеребьевке и либо умереть (что его вполне удовлетворило бы), либо же оправдать свое противоестественное существование, освободив несчастную страну от дракона. Но этим сказано еще не все.