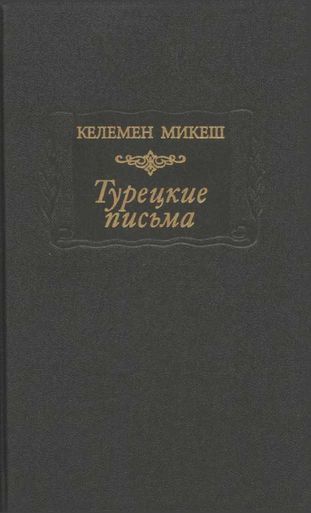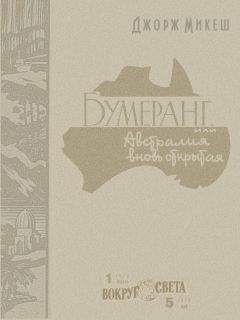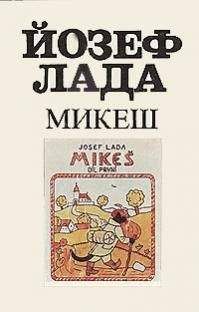обычай у древних, ежели мы и здесь его можем найти: мужчина берет женщину или девицу, идет с ней к турецкому судье и говорит, мол, эту женщину я беру на год или на два, а когда время пройдет, я должен заплатить ей столько-то денег. Судья дает им бумагу, и после этого они могут свободно жить вместе. Но судье положено принести подарок, иначе дело не состоится. Хотел бы я знать, что сказали бы на это наши эрдейские женщины? Держу пари, что многие сказали бы: placet [182]; но может быть, даже мужчины ничего бы не потеряли, войди такой закон в обычай [183]. Знаю, что Жужи, которая сегодня стала мадам Берчени, будет вам писать, и она наверняка напишет о более секретных вещах, чем я. Но вот что я у вас спрошу, милая: в чем различие между святостью выдерживания пенитенции [184] и святостью брака? Жду от вас ответа на этот вопрос и, желая вам крепкого и хорошего здоровья, остаюсь... [185]
51
Родошто, 19 decembris 1723.
Милая кузина, уже на несколько писем я не получил от вас никакого ответа. Вы, наверно, упрекнете меня в том же; однако у меня-то причина есть: целый месяц господин наш чувствовал себя плохо и не мог встать на ноги из-за подагры. На это вы мне можете возразить: ведь у меня-то в пальцах никакой подагры не было, и писать я вполне мог. Я же вам отвечу, что тяжелой подагрой страдали и сердце мое, и разум мой. Молодую [186] я не видел с тех самых пор, а увидел только сегодня. Да и сегодня бы не увидел, ежели бы не пришлось пойти туда с князем. При всем том должен честно признаться, обязанность эта приятна была моему страдающему сердцу, а когда мне сердито попеняли, что я столько времени не показывал носа, для меня это было как лекарство. Только вот беда, милая кузина: такое лекарство причиняет еще большую боль. Какое же лекарство тогда искать? Пожалуй, самое лучшее — обойтись без всякого лекарства, но это большое искусство. При всем том, будь я в полном здравии, то должен был бы сказать, что все готов сделать ради того, кто дает мне силы жить. А живем мы так, будто жили здесь всегда и всегда будем жить, до самой смерти. Я уж не удивляюсь, когда слышу от других, что человек может забыть свою родину; я бы, пожалуй, и сам забыл, не получи я намедни письмо от матушки своей, коя пишет: коли захотел бы я вернуться домой, к ней, она бы уж постаралась добиться помилования [187], — ведь господин мой жить будет не вечно, а что я буду делать в чужой стране после его смерти. Пускай все это может осуществиться, я же в любом случае вижу лишь неуверенность в своей судьбе. Но как здесь, так и в любом другом месте должны мы покориться воле Господа. И думать не так, как какие-нибудь безбожники, которые считают, будто Господь, сотворив мир, оставил его на произвол судьбы, мол, пускай себе существует, как может, а до всяких мелочей ему дела нет. Это вроде того, как часовщик, сделав часы, заведет их и затем отвернется: пускай-де ходят, как им заблагорассудится [188]. Но не следует так думать христианину, ибо Евангелие учит, что Господу столько же дела до бедняка, сколько и до короля, и что любой наш поступок совершается по воле Божьей. Ежели бы мы считали по-другому, то пришлось бы нам думать, что нет никакого потустороннего мира и что мир этот был создан только для важных господ, ради богачей, а люди низкого сословия, бедняки, существуют в мире только для них, подобно тому как мелкие рыбы в воде — для больших рыб, а неразумные животные — для того, чтобы тащить на себе груз. Не дай нам Бог впасть в такое неверие, следуя за теми, кто христианин только по имени. Ибо я верю, что Господь заботится обо мне так же, как о любом короле, за моей жизнью, за моей судьбой следит точно так же, как за жизнью и судьбой самого богатого человека. Что говорить, в земной жизни богатым лучше, но поскольку мы христиане, то должны говорить: пусть воля Божия будет с нами [189]... Ну вот, я и не заметил, как, начав письмо с разговора о молодой, закончил проповедью. Но, милая кузина, немножко божественных мыслей не повредят, и вы сами видите, милая, что я возлагаю на волю Божью то, что со мной еще ни разу не случилось, а с господином Берчени — уже трижды. Скажу лишь, что я — как та Эзопова лиса, которая, не сумев дотянуться до винограда, утешила себя, решив, что он еще зелен [190]; вот и я говорю, что, должно быть, просто не пришло еще мое время. Однако время уже пришло для того, чтобы вы мне писали и заботились о своем здоровье. Чуть не забыл у вас спросить одну вещь. Скажите, милая, в чем разница между святостью выдерживания пенитенции и святостью брака. Эту вещь я, может быть, уже писал вам, но сейчас не могу вспомнить. А поскольку начал я это письмо словами о молодоженах, то спрошу еще раз. Вспомнились мне еще вирши о молодоженах, но это к Жужи точно не относится. При всем том напишу все-таки, раз уж больше не о чем писать.
Ах, милашка Ката, ежели б весною
не была со мной ты строгою такою,
крепко подружились бы мы тогда с тобою,
и не стал рабом бы я твоим, не скрою.
Ах, мой милый, это хорошо я знала,
дула я на кашу, чтоб не обжигала,
прежде обожглась я, но умнее стала,
заново с тобой обжечься не желала.
Доброй ночи, милая кузина, больше писать не буду, так что, может быть, в этом году вы не получите от меня писем.
52
Родошто, 18 februarii 1724.
Милая кузина, уже на несколько писем я не получал от вас ответа. Знаю, что вы мои письма тоже получаете редко и с опозданием, потому как корабли нынче из-за сильных ветров ходят редко. Последнее письмо вы написали мне двадцать лет назад; ладно, не стану врать: двадцать дней назад. Не знаю, где его носило столько времени по