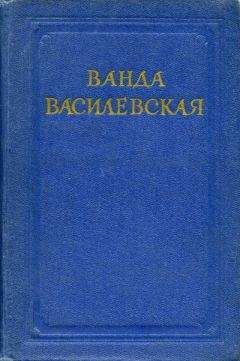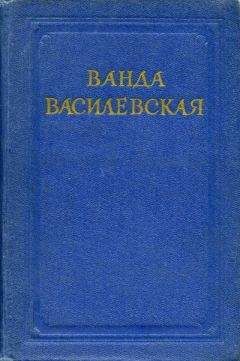И только когда он вышел за дверь и увидел в потемках тихую, притаившуюся деревню, его укололо в сердце сознание, что поимка Ивана ничему не поможет. Деревня притаилась во тьме, словно мрачный, злобный зверь. Деревня подстерегала во тьме, в этих невидимых сейчас избах под покровом ночи спали люди, и у каждого из них было одно и то же лицо — глухое, замкнутое, скрывающее невысказанную угрозу…
Рассеялся запах сенокоса, луга стояли пустые, обнаженные болота глядели в небо голубыми глазами отраженной лазури. Зато стали медленно желтеть рассеянные узкими полосками ржаные поля. Зеленый их цвет переходил в смуглую тень, в светлое золото. Полоски ржи неожиданными пятнами светлели среди темных полей картофеля, рядов конопли, среди проса, еще зеленевшего свежей краской молодости.
Хожинякова рожь, посеянная на азотном удобрении, выросла высокой и буйной. Она колосилась крупным колосом, глаза радовались, глядя на нее, но крестьянские взгляды скользили по ней мрачные, знающие что-то свое. Однако осадник не думал сейчас о мужицких взглядах. Он думал о первом урожае своей земли, о первых плодах своего труда.
Он вышел в поле с косой. Крестьяне смотрели на нее с недоверчивой усмешкой. Сами они жали рожь серпами. Это были серпы, выкованные в паленчицкой кузнице, слабо изогнутые, длинные и узкие. Испокон веку здесь жали рожь серпами. Известно, коса растрясет половину зерна, растреплет солому. А серпом другое дело. Серпом жнешь осторожно, горсть за горстью ложится на стерню, ржаная солома аккуратно вытягивается, уложенная внимательными руками. Тут ни к чему фабричный серп, он хоть и дешевле, да никуда не годится. Кузнец в Паленчицах за долгие годы выучился изгибать лезвие точно, как надо, и насечку делать как полагается, и рукоятку такую, чтобы сама приставала к рукам. Фабричный серп быстро зазубривался, плохо шел в хлеб, неудобный, слишком легкий.
Но осадник вышел с косой. Он хотел по-новомодному убирать свою пригожую, высоко поднимавшуюся над мужицкими колосками рожь.
Снова по равнинам шел звон, казалось, золотым от солнца голосом звенит сам золотистый воздух. Небо было бледно-голубое, словно вылинявшее, и жаркий полдень вставал в тяжком поту. Снова опустела деревня, все были на работе.
И снова выросли копны, ровнехонько уложенные снопы, прикрытые словно шапкой самым большим для защиты от дождя, хотя дождя не предвиделось. Выросли копны и на участке осадника, выросли чаще и выше, чем на мужицких полосках. Хожиняку было трудновато одному. В первый день уборки ему удалось договориться с глуповатой Евой, которая, непрестанно шмыгая носом, подбирала за ним рожь. Но, видимо, мужикам это не понравилось. На следующий день она не явилась, а когда он зашел в избу спросить о ней, то получил в ответ пожиманье плечами и это их вечное, упрямое: «Не знаю, паночку».
Он уперся и решил все делать сам. Узнав об этом, госпожа Плонская прислала на помощь Стефека, и работа пошла быстрее, хотя молодой Плонский не вступал ни в какие разговоры. Он быстро вязал снопы и складывал их ровно, проворно, точно, как машина.
Вечером, когда осадник взглянул на вытянутый по шнурку ряд копен, его укололо смутное предчувствие. Он не пошел ночевать домой, остался с неизменной винтовкой в поле. Ночью не было ничего особенного. Небо искрилось звездами, из деревни доносились далекие голоса, хлюпали весла на реке, но здесь было пусто и тихо. Он лежал у копны и смотрел в небо — высокое, необъятное, горящее звездами. Одна звезда упала, на небе долго оставался след, лучистый путь в дали вселенной. Над самой черной линией лесов ледяным голубоватым светом пылала крупная звезда. На мягких крыльях пролетел козодой, мелькнула в воздухе летучая мышь. Ночь убаюкивала, обманывала чудесной тишиной, сладостным ароматом, покоем звезд.
Хожиняк задремал, лишь когда небо побледнело. Проснулся он на рассвете, весь мокрый от росы и злой, что зря остался здесь на ночь. Потягиваясь, он пошел домой и, обрядив свое небольшое хозяйство, решил, как только обсохнет роса, ехать за хлебом. Копны можно было поставить и во дворе. Здесь будет надежнее.
Он высоко нагрузил воз. Лошадь тронулась. Под гладкой гнедой шерстью напрягались мускулы. Лошадиный зад равномерно поднимался и опускался, кожа вздрагивала от надоедливых укусов мух, которых налетела тьма. Крупные оводы, серые, словно посыпанные пеплом, лезли лошади в глаза, роями облепляли ее нежный живот. Хожиняк, сидя на возу, сгонял их концом кнута, но не успел помешать одному из них ужалить, и тоненькая струйка крови поползла по гнедой шерсти вниз, впитываясь в нее и привлекая новые стаи оводов.
Хожиняк осторожно проезжал овражки, минуя болотистые, размокшие долинки. Снопы зашелестели о ветви ольх, он пригнулся, стараясь предохранить лицо от ударов ветвей.
Но тут его стал преследовать какой-то неясный, неприятный запах. Что-то вроде гари. «Должно быть, в роще разложили костер», — подумал он и машинально поискал глазами струйку дыма над лесом. Но дыма не было. А запах все чувствовался, близкий и все более отчетливый. Лошадь вдруг захрапела и рванулась. В ту же секунду Хожиняк услышал позади странный шорох. Он оглянулся.
Горели снопы на его возу. Он кинулся, как безумный, и стал торопливо выпрягать бьющегося в испуге коня. Прежде чем ему удалось управиться с постромками, огонь взвился высоким светлым пламенем. Осадник бросился к возу, стал рвать плотно уложенные и увязанные снопы. Они не поддавались. Он тащил их за колосистые чубы, сталкивал, чувствуя на лице горячее дыхание огня. С огромным усилием ему удалось вытащить решетку — большая куча снопов свалилась на землю. По ней пополз дым, придушенный огонь затух. Но на возу еще горело. Занялась телега, забегали по ней проворные язычки огня. Хожиняк кинулся к снопам, раскидывая их руками, стараясь потушить прыгающие по телеге огоньки. Черная, сожженная солома летала в воздухе, рыжая копоть оседала на лице, острые стебли кололи обожженные руки. Пальцы нащупали что-то твердое, и он вытащил деревянную стрелу с привязанным гусиным пером. У самого острия чернела влажная, пахнущая керосином пакля. Эта стрела, видимо, погасла, но остальные сделали свое дело.
Лошадь бродила поодаль, равнодушно пощипывая низкорослую траву. Растрепанные снопы, черные, закопченные, были свалены в кучу. Часть их совсем сгорела. Он пнул ногой черный, сохранивший свою форму сноп, и он рассыпался жирным пеплом. Осадник оглянулся. Вокруг, насколько хватал глаз, никого не было. Зеленые веточки ольх неподвижно застыли в нагретом воздухе, где-то в глубине рощи пела свою щебечущую беззаботную песенку птица. Лишь теперь Хожиняк почувствовал пузыри на руках, увидел сожженные пряди волос. Он злобно выругался и снова впряг лошадь, совершенно уверенный, что искать в ольховой роще виновника бесполезно. Там наверняка уже никого нет. Тот или те видят все, но ему до них не добраться. Они умеют растворяться в воздухе, проваливаться сквозь землю, исчезать, как впитывающийся в воду туман. Они повсюду и могут сделать все. Они наверняка не зажигают по вечерам лампу, но когда дело доходит до его хлеба, то находится и керосин и дьявольская выдумка — лук, пославший издали меткий огонь. Никто не вступает в открытую борьбу, нет, они привыкли действовать именно так: из-за угла, невидимо, неуловимо. От всего они умеют отбрехаться, во всем оправдаться. Вот хоть этот Пискор, например.
Хожиняк выбрал наименее поврежденные снопы и мрачно зашагал рядом с полупустой телегой. Его снова охватил гнев на коменданта, на старосту, на Хмелянчука. В Синицы он, как дурак, съездил совершенно зря. Иван вовсе и не отпирался. Да, он был в Синицах в среду, но до того навестил брата в отдаленной деревне за Синицами, уговаривал его идти вместе. Брат подтвердил это, подтвердили и другие, алиби было установлено непреложно. Все совпадало, даже объяснения старосты. И Иван как ни в чем не бывало ходил по деревне, занимаясь своим делом. Иногда, перед лицом этой очевидной, доказанной невиновности, начинал сомневаться и сам осадник. Он чувствовал, что запутался в каких-то дьявольских сетях, из которых невозможно выпутаться, что за всем этим скрыты какие-то прямо-таки сверхъестественные силы, с которыми немыслимо бороться, преодолеть которые нечего и думать.
На повороте он встретил, наконец, первое человеческое существо. Параска Рафанюк шла в поле, неся в черном глиняном горшке завтрак для жнецов. Ее зеленые глаза равнодушно скользнули по осаднику, по сожженным снопам на возу, выражение ее лица нисколько не изменилось. Она ни о чем не спросила, ничему не удивилась и как ни в чем не бывало пошла дальше. Ему захотелось хлестнуть ее кнутом по лицу, он едва удержался от этого.
Уже почти около самого своего дома он встретил Хмелянчука. Мужик остановился.
— О, что это случилось?