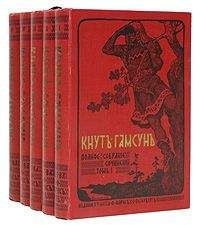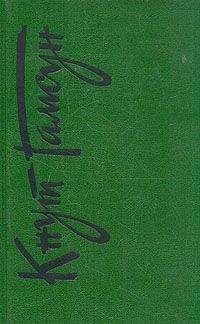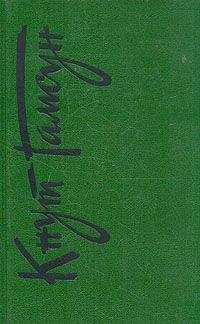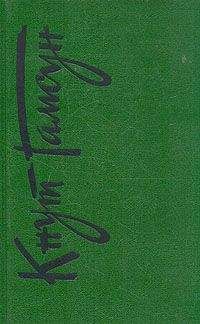Его сиятельство помолчал мгновение. Ждал ли он теперь той поддержки, которую Люнге старался кое-как собрать? Почему никто не был на его стороне, ни одного человека? В прежние времена никто ведь не мог так, как он, приводить сердца в трепет, заставлять глаза сверкать в этой зале. Теперь всё было тихо; только позади себя в большой зале он слышал дыхание депутатов.
Его сиятельство поднялся и сказал несколько слов. Нельзя ли было предотвратить эту грозу маленькой парламентской хитростью? Он пытался сказать пару слов о своей долгой трудовой жизни, заявил, что, если страна больше не нуждалась в его услугах, он сумеет найти убежище и покой на старости лет без указаний со стороны правой. Когда он сел, оказалось, что он сказал много слов, не ответив ничего. Его ловкость была очень велика.
Но вожак правой не дал ему вывернуться. Да или нет, ответ, определённость.
И снова ждёт одно мгновение его сиятельство. Чего он ждал, если ни один из штопальщиков чулок не осмелился первым нанести хоть небольшой удар в его защиту. Никто не встаёт, никто не подходит к нему.
Тогда его сиятельство кладёт конец мучительному состоянию.
Завтра министерство подаст свои прошения об отставке. Его величество король был, впрочем, заранее подготовлен.
И его сиятельство закрывает свой портфель на конторке, берёт его под мышку и оставляет залу, холодный, спокойный, словно никакого запроса и не было. Его советники следуют за ним пара за парой.
Министерство было свергнуто.
Гойбро старался выйти из своей ложи и наконец с большим трудом пробрался к выходу. Итак, министерство пало, манёвры Люнге не могли его спасти. Каков теперь следующий вопрос, которым Люнге привлёчет к себе внимание?
Гойбро только что был в городе и разослал свою брошюру. Она не вышла так своевременно, чтобы могла оказать какое-нибудь влияние на падение министерства, да этого совсем и не требовалось; ведь убеждённая левая победила, рекламная политика «Газеты» потерпела поражение.
И Гойбро радовался в душе, левая была ещё на правильном пути.
Он не раскаивался ни в одном слове своей брошюры, он и теперь не изменил бы ни одного предложения. Он изобразил Люнге, как погибшего человека, как талантливого духовного банкрота, испорченного уже в самые лучшие годы, а теперь опустившегося до степени прислужника города, бульварной публики. Что говорил город? Город превратился в сплошной смех вчера по поводу унизительного отзыва правой о председателе нижней палаты; в эту неделю темой для разговоров города была новость «Газеты» о нападении в Сандвикене; интересно знать, получают ли другие люди в городе такое же удовольствие от статей «Вечерней Почты», как сама «Вечерняя Почта».
Не успеет что-нибудь случиться, как Люнге уже прибежит, поклонится, спросит высокочтимый город о его высокочтимом мнении. И он снова кланяется, когда узнаёт его.
Ну, против этого ничего ещё нельзя было возразить.
Но заметьте, что этот человек без убеждений, без выдержки, управлял людьми и вещами исключительно благодаря своей способности прислушиваться к мнению города. Его личное лёгкомыслие понижало достоинство публичных споров, вносило смятение всюду, куда ни обратись, и ослабляло чувство ответственности у людей. Прочь с дороги, Люнге хочет пройтись колесом, Люнге хочет поразить публику новой интересной вещью! Он показывает себя с незнакомой стороны, он изумляет, он переворачивает на изнанку всё постоянное и прочное, даже к своему собственному мнению он относится без всякого уважения, он высмеивает его легко и непринуждённо, разрушает его шуткой и затем предает забвению.
Для такого человека моральное постоянство является только красивой и приятной домашней добродетелью, политическая верность и правдивость — фразой, словом, и он поступает сообразно с этим. Своими внезапными манёврами он делает честную работу левой сомнительной, теряет всякое благоразумие, даёт печати братской страны ложные представления о мнении норвежского народа и отодвигает нас назад на целые годы в переговорах со шведами относительно наших прав.
Он не желает уничтожить левую, он просто хочет играть свою собственную, своеобразную мелодию в концерте, чтобы его газету читали; он хочет иметь свою роль, быть предметом разговоров. О, нет, он совсем не хочет уничтожить левую, это было бы слишком грубо, он отнимает у неё внутреннее содержание, всё её значение и затем оставляет жить. Если он три месяца был надёжным либералом, то на четвёртый месяц он выдумывает способ изумить публику и выпускает номер, в котором совершенно искажает точку зрения левой и доставляет правым удовольствие полускрытыми уступками.
Таким образом Люнге хочет пробраться к правым. Он хочет иметь подписчиков среди правых, он хочет привлечь внимание правых. И правые не указывают ему на дверь. Правые — вежливые люди — не выбрасывают его вон. Привлечёт ли он их интерес? Допустим, он действительно интересен, он даже делает им уступки! И колеблющиеся правые, бессознательные члены партии, с любопытством дают себя одурачить этому человеку с уступками.
Всюду Люнге суётся со своей поддельной честностью, «Газета» стоит на правильной точке зрения в вопросе о самоубийстве и преступлениях против нравственности, «Газета» не даёт возможности погрязать в грехах разным беспутным ворожеям и агентам, она их разоблачает открыто и бескорыстно, с холодной беспристрастностью, открывает презрению других людей доступ к ним и тем самым очищает общество от преступлений и отбросов.
Но должно же было что-нибудь быть в этом человеке, который создал себе такую прочную славу в качестве редактора? Это было то, что он долгое время был талантливым журналистом в такой бедной талантливыми журналистами стране. В своё время он развил сильную агитационную работу. Он стрелял своими эпиграммами с молодым задором, выстрелы были слышны, выстрелы рождали эхо вверху, между гор, и внизу, среди долин, выстрелы были смелы, никто не мог ему подражать. Высоким и низким, великим и малым, всем пришлось служить для него мишенью, только самые недоступные личности, величайшие поэты, величайшие композиторы, величайшие спортсмены, эти популярные герои всех сортов, которых защищало мнение города, только они избегали эпиграмм Люнге. Но, благодаря этому, он укрепил свою позицию: он нападал беспощадно, он стрелял, он клеймил, — да, но он щадил тех, которые были достойны пощады.
И, казалось, никому в голову не приходило, что только в стране, где журналистика так неразвита, как в Норвегии, этот человек мог играть роль. .
В большой стране он был бы вырезывателем заметок в каком-нибудь листке, в Афганистане он сумел бы достигнуть положения деревенского знахаря и делал бы фокусы на песке.
Но теперь левая должна остерегаться этого человека. Пока левая является разрозненной партией и занята спорами из-за унии, Люнге будет левым три месяца и почти правым на четвёртый; если же, наоборот, левая в один прекрасный день объединится, Люнге будет снова принадлежать самой большой партии вполне и безусловно. Но такими борцами не должно пользоваться честное и идеальное дело левой, Люнге показал себя слишком большим спекулянтом, от него можно всего ожидать. Он в состоянии сделать всё, что угодно. В наших публичных спорах он сделал серьёзность ненужной и создал бесстыдное лёгкомыслие по отношению к людям и вещам, лёгкомыслие, которому до сих пор не было видано равного на родине. К нему надо относиться, как к тому стрелку, который убежал с поля битвы и удивлял всех женщин в стране массой крови, которая была на его одежде. А когда женщины спрашивали, как обстояли дела, он отвечал: «Дела? Я застрелил десять тысяч и больше не мог, мне всё стало казаться красным. Но я снова пойду туда, клянусь Богом, я то сделаю... как только дела примут лучший оборот»...
Таково было содержание брошюры Гойбро.
Впрочем, в ней заключалось много вещей более личного характера, тайны, про которые Гойбро узнал от самых близких Люнге людей, от Лепорелло, относительно амурных связей редактора в городе и вне его. В общем он изобразил Люнге с жаром, с горячей насмешкой. Этот великий человек, который сидел в своей конторе и произносил свои суждения обо всём и обо всех, был уличным мальчишкой, у которого едва ли было чисто под носом. В конце своей брошюры Гойбро объяснил, что целью этого произведения было сорвать маску с журналистского лёгкомыслия Люнге и заклеймить его продажную политику. Левая не стояла в настоящее время так непоколебимо, чтобы сильно не нуждаться в верности и нравственном благородстве своих приверженцев, её цель этого требовала и заслуживала...
Гойбро шёл, понурив голову, домой. Через неделю истекал срок его последнего взноса в банк. Он не в состоянии заплатить, если не произойдёт чуда; не было никакого исхода. Фру Илен два раза говорила с ним о своём долге, теперь Фредрик почти ничего не зарабатывал в «Газете», за последний месяц он уплатил по счёту за хлеб, — вот всё, чем он мог помочь. И фру Илен не была даже в состоянии отказываться от платы, которую Гойбро приносил каждый месяц; конечно, она должна была Гойбро эти полтораста крон, но что же ей было делать, если для неё настали плохие времена?