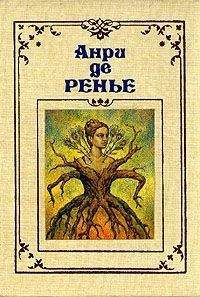— Вы не можете себе представить, сударь, до чего господин аббат был добр ко мне. Он брал меня с собою на прогулку. Случалось, он иногда забывал меня в какой-нибудь книжной лавке, так он был рассеян, но он вскоре заходил за мною. Когда он оставлял меня дома, то не забывал приносить мне фунтики мелких конфект или бумажные ветряные мельницы. Я дула, чтобы они вертелись; тогда он смеялся над тем, как я надувала щеки, и его, по-видимому, забавляло прислушиваться к тому, как хрустели у меня на зубах конфекты; как он защищался, когда я тянулась целовать его моими сладкими губами.
— Но, Фаншон, когда вы были маленькой, кто же надевал на вас платье, кто умывал вас, расчесывал вам волосы?
— Да все он же, сударь; я как сейчас вижу его. Он приносил большой таз с водой и с мылом, которое пенилось. Я кричала, пряча мой нос, закрывала глаза и уши. Потом он забирал мои руки в свои и тер их до тех пор, пока они не становились чистыми. Он осматривал их вплоть до ногтей. Ему я обязана постоянным старанием, чтобы они были у меня всегда чистые, хотя я и отчищаю, не колеблясь, старые медали и мои сковороды, так как господин Юберте любит покушать, и справедливость требует, чтобы я хоть немного отплачивала ему за те заботы, которые он мне посвятил, и чтобы я старалась угождать ему в его пристрастиях и в его забавах.
Г-н де Портебиз начинал уже вполне осваиваться с м-ль Фаншон и со всем, что ее касалось. В ней было что-то легкое, гибкое и тонкое. Все это сливалось в юную грацию, которая легко могла бы перейти в сладострастие, если бы оттенок чистоты и наивности не изливал на нее ту чарующую свежесть и невинность, которые на самом деле мешали придавать какой-либо иной смысл ее речам и задавать себе вопрос, что, собственно, понимала она под забавами аббата.
М-ль Фаншон в отсутствие г-на Юберте не раз занимала его посетителей, но среди них встречалось не много столь изящных, как г-н де Портебиз; поэтому и восхищалась она тонким кружевом его манжет и блестящим покроем его платья, не чувствуя при виде его никакой неловкости и скорее польщенная улыбками и вниманием, которые прекрасный господин уделял ее личику и ее болтовне.
— Тем не менее, мадемуазель Фаншон, вашему аббату, должно быть, нередко зато приходилось трудно с вами в первое время, так как вы не были еще опытной хозяйкой, если судить по тому, как вы дали выпить молоко большой собаке?
— Разумеется, сударь, тем более что я была такая трусиха, такая трусиха… В первый вечер он уложил меня спать в библиотеке. Потушив свечу, я лежала с открытыми глазами. Старые книги начали поскрипывать; им отвечали мыши. Я слышала, как они бегали мелкими шажками взад и вперед и совсем близко от меня. Одна из них что-то грызла своими острыми зубками. Я чуть было не закричала. Наконец, не в силах выдерживать далее, я встаю, босая, в рубашке, и пробираюсь в комнату господина аббата, откуда сквозь дверные щели я видела свет. Он спал в своей громадной постели. От его тяжелого дыхания поднималась и опускалась простыня, доходившая ему до подбородка. Я успокоилась, прислушавшись к его храпу. Утром, проснувшись, он нашел меня свернувшейся комочком в кресле. Ноги у меня были как лед, и на другой день сделался сильный насморк.
— А что на это сказал аббат?
— На другой день к вечеру я нашла мою маленькую кроватку стоявшею в углу его комнаты. Чтобы очистить для нее место, он переместил свои китайские вазы и свои древности. Ах, что это была за кроватка, сударь! Я протягивалась в ней во всю длину и засыпала тотчас, а если просыпалась ночью, то засыпала вновь без страха. У потолка в лампе с тремя рожками горел в масле фитиль. Иногда, впрочем, я все-таки боялась; но достаточно было мне приподняться в моей постели, чтобы увидеть господина аббата в его постели и убедиться, что он там под периной. Кончики шелкового платка, которым он повязывал себе голову, рисовали на стене две тени, похожие на рога. Ах, сударь, я их как сейчас вижу.
— Вы их видите до сих пор, мадемуазель Фаншон?
— Ах, сударь, когда мне исполнилось тринадцать лет, господин аббат подарил мне обстановку. Но взгляните сами.
Она распахнула дверь, довольно искусно скрытую деревянною обшивкою, и г-н де Портебиз увидел хорошенькую комнату с зеркалами и кроватью за драпировкою.
— Он сказал мне: «Фаншон, ты теперь большая. Здесь ты будешь у себя». И он показал мне туалет, отпер шкаф, в котором висели платья и лежало белье. Он воспользовался, чтобы все это устроить, легким нездоровьем, которое только что продержало меня в постели около недели и из которого я вышла выросшею и развившеюся. С этого дня я перестала носить детские туфли без каблуков и стала ходить в ботинках на высоких каблуках. Я получила отдельный ключ. Господин Юберте обращался со мной как со взрослою. Его отношения ко мне остались отеческими, но стали более осторожными. Он стучит в дверь, прежде чем войти ко мне. Однако по утрам, когда я еще сплю, он иногда входит на цыпочках. Он думает, что я его не вижу, и я предоставляю ему так думать. Он подходит, крадучись, и смотрит, как я сплю. Ему это, по-видимому, доставляет удовольствие, сударь, а я этому рада, потому что разве не справедливо, что мой ночной чепчик и мое утреннее лицо развлекают его взоры? Я перед ним в долгу. Разве тень от кончиков его фуляра на стене не достаточно часто успокаивала мои страхи, для того чтобы вид моего чепчика не мог радовать его взгляд? Поэтому, заслыша его шаги, я устраиваю так, чтобы незаметно показать кусочек моей обнаженной руки или моего открытого плеча.
— Вы хорошо говорите, Фаншон, и рассуждаете, как умная и осторожная девушка, — сказал смеясь г-н де Портебиз, — и я вижу, что господин Юберте может рассчитывать на ваш ум так же, как и на ваше сердце. Одно стоит другого. Но как ни должен быть счастлив аббат вашим обществом, тем не менее он иногда отлучается — если судить по сегодняшнему вечеру — и оставляет вас одну, как я застал вас. Чем можете вы наполнить ваши дни?
— Но я танцую, сударь.
— Вы танцуете, отлично, мадемуазель Фаншон, но кто же составляет вам визави? У вас есть возлюбленный, и аббат оплачивает скрипки?
М-ль Фаншон принялась хохотать так открыто и так громко, что г-н де Портебиз, хотя и уверенный в том, что не оскорбил ее, чувствовал себя, однако, почти уязвленным этою веселостью.
— Да нет, сударь, вы не угадали, и здесь не то, о чем вы думаете. Чтобы сказать вам все, я должна сообщить вам, что господин аббат любит балет. Он часто ходит в Оперу и страстно желал бы, чтобы и я когда-нибудь могла выступить там. Чтобы развить мои таланты, он дал мне лучших учителей, и их уроки принесли мне пользу. Они хвалят мои успехи, и уже сейчас мне поручают выходы и небольшие роли. Мадемуазель Дамбервиль, по просьбе господина Юберте, не отказала помочь мне советами. Я работаю неустанно, чтобы оправдать ее внимание ко мне и чтобы понравиться господину Юберте. Он любит танец, сударь, и приятно слышать те превосходные слова, которые он о нем говорит.
Г-н де Портебиз с изумлением слушал речи м-ль Фаншон. С минуту как в воздухе начал распространяться сильный запах гари. Фаншон убежала и вскоре вернулась. Она, казалось, была рассержена, и гримаска досады опускала покрытые легким пушком уголки ее рта.
— Вот, обед господина аббата подгорел… Ах, боже мой! А господина аббата все еще нету… На улицах так много карет! Только бы с ним не случилось какого несчастья! Не говоря уже о том, что он часто приносит книги больше и тяжелее его самого.
Она жаловалась и почти плакала, держа обеими руками концы фартучка, которым осторожно утирала уголок глаза, когда в дверь кто-то начал скрестись.
Девочка, которую г-н де Портебиз видел, когда входил, внизу лестницы, просунула свою красную и испачканную рожицу и грязными пальцами протягивала письмо.
— Подай сюда, Нанетта; кто это тебе передал?
— Высокий лакей.
— Давно ли?
— Сию минуту.
— Ты лжешь. Вы разрешите мне прочесть, сударь? «Фаншонетта, не жди меня. Я буду ужинать у мадемуазель Дамбервиль. Я принесу тебе сухарики и конфекты. Ты получишь эту записку довольно рано и сможешь еще пойти к господину Дарледалю разучивать твое па».
— Видишь, как ты солгала, Нанетта. Почему ты не поднялась ко мне тотчас? Зачем ты замарала записку?
Нанетта ничего не отвечала. Она высунула язык и спрятала его как раз вовремя, чтобы получить пощечину, которую отвесила ей легкая рука м-ль Фаншон.
Нанетта всхлипнула.
— Теперь давай сюда твой нос, — приказала ей м-ль Фаншон, ставшая вдруг матерински-заботливой, вынувшая свой носовой платок и высморкавшая сопливую девочку, — а теперь убирайся, живо!
Нанетта быстро скатилась с лестницы; слышен был удалявшийся топот ее грубых башмаков.
— Она злобная, сударь, и никогда не бывает иною; кроме того, она скрытная. Господин аббат поместил ее в школу. Так подумайте: она приносила в своей корзинке лошадиный помет, чтобы заражать зловонием классную комнату. Она проводит дни на дворе или у дверей. Смеется она, только когда видит хромого или горбатого, или когда падает лошадь, или когда бьют собаку. Она насмехается над прохожими. Тогда ей дают пощечины. Она это любит. Она ото всех получает тумаки. В конце концов, ей дают их как милостыню. Господин аббат сам отпускает ей иногда по нескольку тумаков, а я, как видите, заканчиваю то количество тумаков, которое она получает и которое, несмотря на общие старания, не превышает того, чего она заслуживала бы.