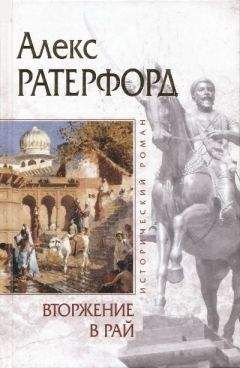В купе я ехал с парой юнцов — вполне симпатичные ребята, только уж больно бестолковые. Сперва они трепались о том, о сем, а я сидел себе тихо в уголочке и слушал. А потом зашел у них разговор об Англии, колониях, других странах. Я не вру вам, доктор, — это чистая правда! Один из них раскрыл хлебало и давай заливать, какие, мол, прекрасные в Англии законы:
— В высшей степени демократичные и справедливые, — говорит он, никакой тайной полиции, никакой слежки, не то, что в некоторых других государствах.
Он много еще распинался на эту тему, а я слушал и трясся от злости. Сами подумайте, док, каково мне было выслушивать всю эту дребедень из уст молодого идиота, когда полиция привязалась ко мне, как моя собственная тень?!
До Парижа я все-таки добрался без особых хлопот, загнал часть золотишка, несколько дней прожил по-человечески и начал уже надеяться, что мне удалось оторваться от преследователей. Я стал даже подумывать, не обосноваться ли мне здесь на время и как следует отдохнуть. К тому времени я действительно нуждался в отдыхе, потому что был больше похож на призрака, чем на человека из плоти и крови. Я полагаю, доктор, вас никогда не преследовала полиция? Ну-ну, не смотрите на меня с такой обидой — я только пошутил! А если серьезно, должен вам сказать, что когда бегаешь от полиции, порой худеешь сильнее, чем шелудивая овца.
В Париже я приоделся и однажды даже купил билет в ложу в Опере. Что делать, люблю покутить, когда есть денежки. Послушал я первый акт, выхожу в фойе и кого же я вижу? Прямо мне навстречу идет по коридору какой-то тип, высокий, чисто выбритый, хорошо одетый, но свет падал ему на лицо, и я его сразу опознал! Это был тот самый речной лоцман с Темзы. Бороду он, разумеется, убрал, но у меня память на лица отличная, и обмануть меня ему не удалось. Честное слово, доктор, в тот момент я почувствовал такое отчаяние, что был готов на все. Будь мы одни, я бы его зарезал, но он знал, с кем имеет дело, и держался настороже. Тут я понял, что больше не в силах притворяться. Я подошел к полицейскому и предложил отойти в сторонку, где никто из вышедших из зала на перерыв зрителей не сможет нас увидеть или подслушать.
— Долго еще ты собираешься за мной гоняться, ищейка? — спросил я его напрямик.
Сначала он вроде бы как оскорбился, но быстро сообразил, что нет смысла разыгрывать из себя девственницу, раз уж я его раскусил. Он тоже ответил мне прямо и без околичностей:
— Пока ты не уберешься обратно в Австралию!
— А разве тебе и твоему начальству не известно, — говорю я, — что за важные услуги, оказанные правительству, я получил полное прощение? Что я теперь свободный человек и могу жить там, где мне вздумается?
Высказал я это все, а он стоит и зубы скалит, морда полицейская!
— Можешь не волноваться, Мэлони, — мы о тебе все знаем. Хочешь жить спокойно, лучше добровольно возвращайся туда, откуда приехал. Останешься здесь, приготовься к тому, что за каждым твоим шагом будут следить. Разок споткнешься — пожизненная каторга тебе обеспечена. Свободная торговля — вещь хорошая, но когда рынок затоварен подобными тебе типами, нет никакого резона прибегать к импорту.
Обдумал я его речь и решил, что смысл в ней кое-какой проглядывает, хотя можно было мне это и повежливей объяснить. Честно признаться, я уже несколько дней ходил сам не свой — должно быть, по дому соскучился. В этой Европе все по-другому, не как у нас. Идешь по улице — на тебя пялятся. Заходишь в бар — сразу разговор прекращается, все от тебя бочком-бочком подальше отодвигаются, ровно как от зверя какого. А уж пьют они… Клянусь вам, док, за пинту нашего старого, доброго австралийского «керосинчика» я бы с удовольствием отдал ведро ихних вонючих ликеров из гнилых фруктов! А все эти проклятые правила приличия! Что толку иметь деньги в кармане, если не можешь ни одеться, как тебе хочется, ни погулять, как тебе нравится? А если поддашь немного и захочешь покуролесить, так на тебя смотрят так, словно ты с Луны свалился. То ли дело в Австралии! Когда я жил в Нельсоне, на приисках, там каждый день из салуна пристреленных выносили. Шлепнут из-за какой-нибудь ерунды, вроде разбитого окна, — и никого это не удивляет. Скучно они в Европе живут, тоскливо. Осточертело мне там аж до самых печенок.
— Хотите, значит, чтобы я убрался домой? — говорю я ему.
— Пока не отвалишь, — отвечает он, — мне приказано дышать тебе в затылок.
— Ладно, — говорю я, — согласен. Только у меня условие: ты держишь рот на замке, чтобы никто не знал на борту, кто я такой. Мне нужна фора, когда я вернусь домой.
На это он согласился, и на следующий день мы вдвоем отправились в Саутгемптон, где он посадил меня на пароход. На этот раз я выбрал порт назначения на другой стороне материка, где меня никто не знал, — Аделаиду. Там я и обосновался по прибытии — под самым носом у полиции. Жил я тихо и мирно, как и мечтал, и жил бы до сих пор, кабы не досадные мелочи, вроде той драки, за которую я сюда угодил, или Татуированного Тома из Хоуксбери. Сам не знаю, доктор, что заставило меня все это вам рассказать — наверное, одиночество меняет человека до такой степени, что он готов чесать языком при любой возможности. А напоследок хочу дать вам один полезный совет: никогда не стремитесь помочь властям, потому что власти отплатят вам так, что мало не покажется. Пускай сами расхлебывают свою кашу, и если у них возникнут трудности на предмет того, как вздернуть шайку разбойников, лучше в это дело не соваться. Пусть сами думают, как им выбираться из дерьма. Кто знает может, когда я сдохну, они вспомнят, как обращались со мной при жизни, и им станет стыдно… Вы меня извините, доктор, за то, что я был груб с вами и выражался не как джентльмен, когда вы сюда пришли. Характер у меня такой ничего не поделаешь. Но, согласитесь, все-таки у меня есть причины для обиды, особенно если вспомнить, через что мне пришлось пройти. Так, вы уже собираетесь меня покинуть? Ну что ж, надо так надо. Надеюсь, доктор, вы не сочтете за труд как-нибудь еще заглянуть ко мне в камеру, когда будете делать обход. Постойте, постойте, вы же забыли ваш табак, доктор! Что? У вас в кармане? Спасибо, доктор, вы добрый человек и все понимаете с полуслова. Очень приятно было с вами познакомиться.
Месяца через два после нашего знакомства Вульф Тон Мэлони был освобожден из тюрьмы, полностью отсидев свой срок. Долгое время я его не встречал и ничего о нем не слышал. История его стала понемногу тускнеть у меня в памяти, но судьбе было угодно вновь свести нас — в последний раз и при трагических обстоятельствах. Я навещал одного из своих пациентов, жившего далеко за городом. На обратном пути, пробираясь на уставшей лошади по узкой тропе среди валунов и обломков скал в сгущающихся сумерках, я неожиданно наткнулся на небольшой придорожный трактир. Я слез с лошади, взял ее под уздцы и пошел к двери, надеясь расспросить трактирщика о дороге к городу. За дверью я услышал какой-то шум и крики, как будто там ссорились или дрались. В хоре увещевающих голосов диссонансом звучали два гневных, громких голоса. Пока я прислушивался, голоса смолкли и в наступившей тишине почти одновременно раздались два револьверных выстрела. Дверь с треском распахнулась, едва не слетев с петель, и две мужские фигуры, сцепившись между собой, вывалились на залитый лунным светом двор. С минуту они держались на ногах, не размыкая объятий, а затем повалились наземь среди многочисленных камней и валунов, усеивающих придорожное пространство. Я отпустил лошадь и бросился к дерущимся. С помощью пяти-шести посетителей трактира, выбежавших следом, нам удалось растащить забияк.
С первого взгляда мне стало ясно, что один из них находится при смерти. Это был крепкий, коренастый мужчина с твердо очерченным, волевым лицом. Кровь хлестала из глубокой раны у него в горле — пуля, очевидно, задела крупную артерию. Я с грустью отвернулся от обреченного и направился к его противнику. У него оказалась огнестрельная рана в легком. При моем приближении раненый приподнялся на локте и с беспокойством впился глазами мне в лицо. К моему величайшему изумлению я узнал изможденную физиономию и светлые, песочного оттенка, волосы моего тюремного знакомца Мэлони.
— Ах, это вы, доктор, — прохрипел он, узнав меня. — Скажите скорей, как он? Он умрет?
Мэлони задавал вопросы о состоянии своего противника с таким волнением и живейшим интересом, что мне представилось, будто на пороге смерти он раскаялся и не хочет покидать этот мир с кровью еще одной жертвы на руках. Но врачебный долг требовал от меня сказать правду. В осторожных выражениях я признался, что соперник его почти безнадежен.
Мэлони испустил торжествующий вопль, заставивший его закашляться. На губах запузырилась кровь.
— Эй, парни! — задыхаясь прошептал он, обращаясь к обступившим его посетителям салуна. — У меня во внутреннем кармане лежат денежки. Плевать на расходы — ставлю всем выпивку за мой счет! Мне стыдиться нечего! Сам бы с вами выпил, да, видать, пора мне отваливать. Мою порцию налейте доку. Он хороший парень…