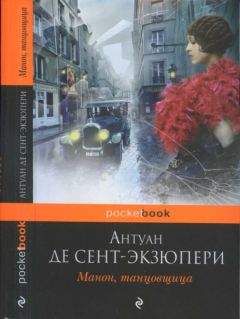И сколько нужно примирить противоречий… Если я пытаюсь создать социальную систему, в которой человек сможет жить благополучнее, в которой техника, которая уже прижилась в мире и не может быть из него изъята, будет спасать его, а не закабалять, то от чего я в первую очередь должен буду отказаться и ради чего — ради электрического подогрева воды и возможности добраться от Парижа до Пекина в три дня? Это главные ценности? Не думаю. Те, кто ратуют за абстрактные будущие поколения, неизбежно сведут к минимуму (по сути, они защищают […] что–то вроде мелкого служащего, который наслаждается рыбной ловлей и фильмами про Бубуля с Мильтоном [43]).
По возвращении блудный сын, возможно, скажет себе после стольких пройденных путей, поисков и блужданий, открытий и постижений: вот она, подлинность, потому что здесь я существую и здесь могу рассказать о своих странствиях. И его воспоминания, превратившиеся в мертвый груз знаний, снова обретут краски, исполнятся смыслом, вызовут сочувствие, негодование или зависть — сейчас, а не тогда, когда он был нищим скитальцем. Невозможно быть жалким, если тебя никто не жалеет, богатым, если тебе никто не завидует. Если нет различия в ступенях, нет системы мер, то нет и чувства гордости, ничтожества или всемогущества. Вот что мне показалось самым поучительным в России: обувью богатого француза восхищались, но ей не завидовали. Только вернувшись, блудный сын отправился в скитание, пока он скитался, он жил домом. Вернувшись, он странствует по бескрайнему миру и претерпевает тяготы странствия. Вечером он целует отца, целует мать, желает спокойной ночи ссохшимся тетушкам, которые служили для него незримыми опорами, придавая каждому его поступку смысл, превращая один в скандал, другой в любовь, и отправляется спать.
Точно так же переход с одной социальной ступени на другую, от бедности к богатству, ощутим только во время перехода. Но когда он свершился, человек больше не ощущает радости. Пока ты беден, богатство — часть твоей мечты. Но когда ты осуществил мечту… Цель, которая достигнута, всегда оставляет чувство разочарования. Но то молоко, на котором человек вырос, выстраивает его жизнь и придает ей смысл.
Отсюда же ненависть к чужакам. Как опасен этот блудный сын, вернувшийся издалека, если рисует дальние страны яркими красками, если не судит о них, исходя из веками установленных правил. «Представьте себе, что в Китае скорее солгут, чем ответят «нет»…», и все покатились со смеху. И ссохшиеся тетушки тоже усмехнулись. Но если он вернулся и молчит, или рассказал о любви с сиамской девушкой не как о насилии, которое допускают иссохшие тетушки для абстрактных стран (они потеряют сознание, если жиголо ущипнет их за ягодицу), но насилие, кровь, резня неотъемлемы от завоевателя, это фон в глубине картины… а он говорит о любви, подразумевая любовь, и сразу становится опасным изгоем, дурным семенем, потому что нет ничего уязвимей, чем система условностей, и ее охраняют с безжалостной жесткостью. Как быстро разлагается общество, стоит допустить в него новый росток! Как опасен апостол!
Вся семья — отец, мать, иссохшие тетушки, двоюродный братик, которого нужно уберечь от вредного влияния, идут на приступ, они судят сатира, убийцу, вора и обрекают в нем на смерть чужака. Сжигают книгу. Они не говорят: это преступление заслуживает смерти, они говорят: смертный приговор успокаивает нас, свидетельствуя о чудовищности преступления, выставляя его напоказ, исторгая преступника из нашего тела, позволяя нам и дальше жить мирно в окружении горшков с цветами; симпатизируя экзотике, мы примем и лимон из Азии, но только заключенный в тюрьме горшка, обреченный на бесплодие карточкой с надписью «Лимон, Индокитай», встроив его таким образом в общество. Антропометрия, благодаря которой и лицо убийцы, и лицо сатира обретают свое место, перестав вызывать тревожные сомнения, став вне всякого сомнения лицом убийцы, вора, сатира, опознанными антропометрически, так нужна нам, она позволяет нам жить в покое. Джунглям среди нас не место. «Образчик» — рекомендует нам наклейка. «Образчик» — рекомендует общественное мнение. Образчик фальсификатора и смутьяна, который способен был бы открыть нам странные и неведомые пути.
По сути, ненависть к чужаку, что так нам по вкусу, оберегает вовсе не наших девушек — девственных или нет, кто это знает? — а образ девушки, особое мужское чувство перед девственной невинностью и слезы матери в канун свадьбы. Ее, она должна стать женщиной, и становится. Его, он должен почувствовать, что получает с неба звезду. Ничто другое не может дать ему почувствовать, что он получает звезду с неба. Законники позволяют мужчине получить с неба только одну звезду.
Лучший из моих друзей говорил мне: «Революции, просыпающееся человечество… Мне кажется ложной не столько решение, сколько проблема: поиск драмы, чтобы выковать в испытаниях человека. Не надо далеко ходить за драмами, они интимнее, незаметнее, они постоянно с нами — болезни, любовь, смерть, деньги. Как насыщена драмами жизнь семьи, которая кажется такой мирной среди зеленеющих виноградников». Так–то оно так… Но в китайских деревнях младенцев отдают свиньям, детей сдают в государственные приюты, и, если ваш лучший друг тонет в
Яндзы и кричит, зовя на помощь, вы смотрите, думая про себя, что лучше утонет он, чем вы, и спорите с соседом на несколько монет, утонет он или выплывет. По существу, драмы буржуазной жизни вовсе не главное, общий уклад насыщает их смыслом. Когда три ваших иссохших тетки, незыблемые опоры, и маленький кузен держатся за уклад, они делают это бессознательно, не ради того, чтобы защитить жизнь ребенка, которого вытолкнули на свет, но ради трусов, которые будут улыбаться вокруг колыбели, из гордости, из |якобы] родительского чувства. Защищая царство долгих болезней, которые подчиняют себе весь дом, и больной становится подобием вездесущего бога, его не видно, но он царит повсюду, все говорят шепотом, все ходят на цыпочках. Защищая гудение колоколов, что передают ветру весть о том, что суета человеческая наконец умиротворена. Потому что все, что считали самым главным, на деле оказалось хрупким и уязвимым, и хорошо бы людям постараться с самого начала не искать в жизни драм. Итак, основы.
Но что такое пропасть, если нет головокружения?
Семь найденных писем Антуана де Сент–Экзюпери к Натали Палей датируются 1942 годом [44]. В апреле и мае этого года Сент–Экзюпери находился в Монреале по приглашению своего канадского издателя Бернара Валикетта. Он собирался прочитать лекцию о своем участии в войне, отстаивая и защищая против многочисленных полемических выпадов свою любимую мысль: необходимость для Франции быть единой. Предполагалось, что он пробудет в Канаде два дня, и вдруг неполадки с визой грозят ему задержкой чуть ли не на полгода [45]. Хлопоча о визе, Сент–Экзюпери прожил шесть недель в гостинице Виндзор, куда к нему приехала Консуэло, поначалу решившая остаться в Нью–Йорке. Сент–Экзюпери болезненно воспринял свое новое вынужденное изгнание, возникшее на фоне другого, тоже вынужденного, но еще более продолжительного, продлившегося в общей сложности два года. Несмотря на внимание своих французских и американских друзей, несмотря на творческую активность, благодаря которой возникли такие произведения, как «Военный летчик», «Маленький принц», «Письмо заложнику», «Цитадель», несмотря на попечения, ободрения, улыбки, общие воспоминания, пребывание в Америке воспринималось писателем как трагедия [46].
Сент–Экзюпери в Монреале очень нервничает [47], опасаясь, что его не хотят пускать в Америку, но мало этого — его укладывает в постель приступ холецистита, от которого он лечится белладонной. В этой не слишком благополучной обстановке он пишет влюбленные письма Натали Палей. А еще одно письмо пишет позже, уже из Нью–Йорка. Скорее всего, они с Натали были знакомы до американского периода жизни Сент–Экзюпери. Вполне возможно, встреча произошла во время съемок фильма «Южный почтовый» и познакомил их общий друг Пьер Ришар–Вильм [48].
Сложный человек со сложной судьбой, Натали Палей заслуживает того, чтобы о ней было рассказано более подробно. Родилась она в Париже в 1905 году. Ее отцом был великий князь Павел Александрович Романов (1860–1919), матерью — графиня Ольга Валериановна Хохенфельзен (1865–1929). Натали Палей, княгиня из рода Романовых, приходилась внучкой русскому царю Александру II. Судьба то баловала ее счастьем и утонченной роскошью, то преследовала с неумолимой жестокостью. Брак ее родителей был морганатическим, они жили во Франции в изгнании, и детство их детей в особняке в Булони было необыкновенно счастливым. Отец отличался необыкновенной добротой и проводил с детьми очень много времени. Любимыми друзьями была сестра Ирина, с которой в детстве Натали была очень близка, и брат Владимир, которым она безмерно восхищалась. Брат уехал в Россию продолжать образование в Пажеском корпусе. В 1912 году русский царь Николай II распорядился, чтобы его дядя, великий князь Павел, с семьей приготовился к возвращению в Россию. Семья вернулась на родину за несколько месяцев до начала Первой мировой войны. Великий князь и его сын — сын несколько раньше отца — поступили на военную службу. Между тем в стране назревала революция, Распутин все активнее влиял на политику царя [49], недовольство росло. После того как революция произошла, великий князь Павел был арестован (1918 г.). Наталье было тогда тринадцать лет, ее сестре — одиннадцать. Мать сумела переправить дочерей в Финляндию, и сама через несколько дней присоединилась к ним, за эти несколько дней великий князь Павел был расстрелян. Прошло несколько месяцев, и они узнали о гибели Владимира, он был сброшен живым в угольную шахту вместе с другими членами царской семьи. Княгиня Палей с дочерьми, прожив некоторое время в Швеции, в 1920 году вернулась во Францию.