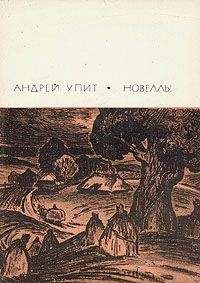Зиле махнул рукой.
— Я с самого начала категорически потребовал, чтобы роль дали вам. Знаете, что мне больше всего нравится в вашей игре? Ваш голос. У вас удивительно женственный, мелодичный голос.
— Я довольно основательно его ставила. Вы, верно, знаете, что я немного и пою? Сейчас меня зовут в Петербург, там есть небольшая опера…
— Нет, самое лучшее в вашем голосе не школа, а естественная, неподдельная чистота и задушевность. Задушевность, вот что главное. В вашем произношении любое мертвое слово становится теплой волной. Мне кажется, слушая вашу речь, даже самый далекий и чужой человек не может остаться безразличным.
Щеки ее слегка зарумянились.
— Не отрицаю, эта роль мне близка и дорога. Я живу в ней. Поэтому все, о чем вы говорили… Я и сама чувствую, что мой голос звучит как-то не совсем обычно. Но это потому, что в пьесе такой наполненный мыслью и мелодичный язык. И конструкции такие легкие и притягательные. Не приходится мучиться с длинными, запутанными периодами, которые машинально откладываются в памяти и делают язык декламационно-неестественным и фальшивым. Ваш язык полон живой образности, удивительно богат звуковыми оттенками. Вы динамически сочетаете элементы музыки и цвета. Это в пьесе новое, и я предвижу ее большое сценическое будущее. Это средство сценического выражения будущего театра. Это расширяет творческие возможности артиста и позволяет ему передать частицу своей собственной души…
Неожиданно она засмеялась.
— Мы тут восхваляем друг друга, как два декадента. Взаимное умиление слишком сентиментальное и не очень эстетическое занятие. Поговорим лучше о чем-нибудь другом.
Зиле покачал головой.
— Я большой себялюбец. Мне больше нравится говорить о собственных произведениях. Я действительно счастлив, что у моей роли такая исполнительница… Да, вот что! Зачем вы так накрасились и зачем эти накладные волосы? На что вам это понадобилось?
Зийна Квелде запрокинула голову и с каким-то озорством посмотрела на него. Но слова ее звучали серьезно.
— Совсем без грима нельзя. При искусственном освещении естественный цвет тела кажется неестественным. В сценическом перевоплощении все искусственно.
— Но эти волосы не нужны. Почему вы думаете, что внешность вашей героини именно такова? Вы же не Милда Звайгзне.
— Потому что… — Она на миг засмеялась. — Мне казалось, что вам она так виделась. Мученицы и героини уже давно подаются брюнетками. Очевидно, так эффектнее.
— Это суррогат, выработанный рутиной, — раздраженно ответил он. — Я не думаю, что и вы должны с ним считаться. Страдание и пафос никак не связаны со светлыми или темными волосами. Ни в жизни, ни — мне кажется — на сцене. У вас такие красивые… Я хотел сказать, такие характерные волосы. Вам нет никакой надобности заменять их. Это отнимает у вас то привлекательное и неповторимое, что есть в вашей личности.
Она не смогла скрыть удовлетворения при виде такого интереса к своей особе. По обыкновению, кокетливо встряхнула головой и пристально посмотрела на него.
— Можно подумать, что вы уже говорите обо мне не как об актрисе, а как… безотносительно сцены.
— И о той и о другой. Вы принадлежите к тому редкому числу актеров, у которых артистизм сочетается с человеческими качествами. Истинной красоте всегда присуще и то и другое.
Она поняла, что разговор приблизился к грани рискованного и стала сдержанной.
Но они уже подошли к дому.
Она поставила ногу на первую ступеньку и протянула руку. Хотела было поспешно и официально проститься, но, взглянув ему в лицо, но смогла. Он смотрел с такой неподдельной симпатией и такой наивной доверчивостью, что с точно таким же доверием она инстинктивно потянулась к нему.
— Может быть, навестите меня как-нибудь, — сказала она и сама удивилась своему приглашению. Еще миг назад ей и в голову ничего подобного не приходило. И чтобы придать приглашению официальный оттенок, сухо добавила: — С вами интересно поговорить об искусстве.
Зиле поклонился.
Пожатие ее руки было неосознанно крепким. Повернулся он только тогда, когда край ее платья исчез в прикрываемой двери.
На другой день после представления у Зийны Квелде всегда болела голова. Чем хуже игралось и чем слабее был спектакль, тем хуже она себя чувствовала.
Сегодня усталость была чуть заметна. Больше по привычке, она прикорнула на диване. Как в школьные годы — забившись в угол, подобрав ноги. В руках стихи Уитмэна[1]. В такие дни она избегала читать что-нибудь связанное со сценой и театром. Ей необходимо было отдохнуть, рассеяться или просто побездельничать.
Она приучила себя не вспоминать о том, что было вчера. Вот и сейчас не думала об этом. Но общее самочувствие было приятное. Этого было достаточно. Она знала, что играла довольно прилично. И если преступить обычное строгое правило, то даже могла представить фразы, которые рецензенты в сегодняшней газете написали о ее игре.
Она улыбнулась. Человек, он чудаковатое существо. А актер чудаковатый человек. Так сказать, чудак в квадрате… Ему правятся даже глупые аплодисменты и пустые похвалы. Вот же извращенная натура. Но никто ничего не может поделать со своей натурой.
За дверью в коридоре послышался какой-то шум. Но Зийна Квелде не придала этому никакого значения. У себя дома она была баловнем и, как каждый баловень, немного деспотом. Слышала она только то, что ей хотелось слышать, а все остальное просто игнорировала.
Но тут мать приоткрыла дверь. А в щели приоткрытой двери она увидела Яниса Зиле.
В первый момент это совсем не показалось ей приятным.
Тут же представились длинные разговоры о вчерашнем представлении и обо всем, что с этим связано. А это могло только испортить спокойное и благодушное настроение.
Но вид Зиле тут же рассеял неприятное чувство.
Одет он был очень тщательно. Слегка растерян и смущен, точно те школяры, которые время от времени являются со своими цветами. И ради него не надо было вставать. Она осталась на своем месте — только вытянула ноги и оправила платье.
Драматург держался даже как-то робко.
— Прошу прощения. Я воспользовался приглашением. Но, кажется, не вовремя. Вы больны.
Почему-то и такая роль ей оказалась по вкусу. Что ж, если ему так угодно…
— Я пользуюсь привилегией полдня поболеть после представления. Но вы не беспокойтесь. Ничего серьезного. Типично актерская болезнь. Чтобы дать нервам отдых и просто побездельничать.
— Но этому отдыху я и помешал.
— Ничему вы не помешали. Мне даже кажется, что я ждала вас. Предчувствовала, что придете.
— Да. Я хотел поблагодарить вас.
— Ах, оставим эти обывательские благодарности и похвалы ради приличия. Нам это обоим ни к чему. Еще вопрос, кого больше нужно благодарить. Вашей заслуги тут больше. Вы же творец и вдохновитель, а я всего лишь исполнительница. Ну, ну, ну — бросьте! Я знаю, что говорю. Каждый из нас делал свое. Каждый свою задачу выполнил, и успехами можем быть довольны. В особенности вы… Но что вы стоите? Вам же некуда спешить.
Зиле взял стул и присел к ее ногам. Еще внимательнее вгляделся в ее лицо.
— Говорите, что хотите. Не верю. Вы больны. Такой бледной я вас еще никогда не видел.
— Ах, о такой болезни и говорить не стоит. Это часть актерского здоровья, и потому приятна. Чем больше роль захватывает и чем лучше ее играешь, тем больше она отнимает у тебя чувств и энергии. Небольшая слабость и усталость после этого естественны.
— Со вчерашнего дня я думаю о вас. Как вы это можете выдержать? Как у вас хватает нервов и энергии? Ведь вы же, по сути дела, горите огнем. И так когда-нибудь сгорите.
— Когда-нибудь все сгорим — и вы, и я. Но мы до тех пор и существуем, пока горим. Огонь — это наша жизнь.
— Со вчерашнего дня во мне, кажется, проснулось правильное понимание сценического искусства. То, что мы можем вам предложить в роли, ерунда. Огнем оно жжет только благодаря вам. Вы наполняете безжизненный материал своим духом и душой. И когда вы увлекаете и вдохновляете, тогда это выглядит так, словно написано поэтом. У вас самое неблагодарное ремесло на свете. Самопожертвование — вот ваша героическая роль. Это величайшее геройство, то, что вы изображаете. Но вы думаете, что это понимают? Именно это понимают? И как у вас еще хватает сил и энергии…
Зийна Квелде заложила руку за голову и какое-то время задумчиво смотрела в стену.
— Что-то в ваших мыслях справедливо. Когда я играю, увлекаясь и вдохновляясь, мне всегда кажется, что я возвышаюсь над своей ролью. Нет, это не совсем то… Роль я воспринимаю как раму, как контур, который я сама должна заполнить своим содержанием. Я произношу ваши слова, а в это время в моей душе половодье — так и уносит. Думаю вашей мыслью, а она разрастается от всего, что во мне годами накапливалось и разрасталось. От всего, что во мне, вокруг меня и позади меня. И от того, что я порою смутно ощущаю, вдали. Тогда мне кажется, что я всему могу придать ощутимость и зримость… Я знаю, что это нереально. Пожалуй, даже неверно… На это мне часто указывали. Но иначе я не могу.