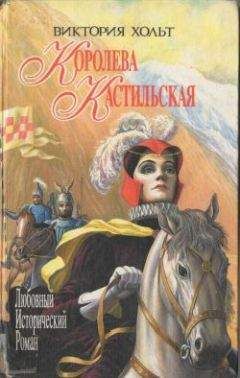И понял Харон бен Израэль, что Бог его отцов наложил десницу Свою на его дочь и принял страстно предложенную им жертву. Но жертва эта оказалась не такой, как он ожидал: это была жертва Иеффая, о котором написано в одиннадцатой главе Книги Судей, что он после победы над врагами Израиля обещал Богу вознести на всесожжение первого, кто встретится ему у ворот по возвращении домой. И навстречу ему вышла его горячо любимая дочь, его единственное дитя.
И понял раввин также, что он не только потерял дочь, но и что Богу его отцов угодно было, чтобы он остался в ненавистном городе, в то время как его братья покинут его, ведь он не мог бросить здесь на произвол судьбы свою любимую дочь в ее предсмертные часы.
Но и Мелхола тоже поняла волю Господа. Она сказала отцу:
– Разве я не говорила тебе, что мы с тобой останемся в этом городе? Ибо Богу угодно, чтобы ты пришел на помощь больным Санта-Розиты.
Раввин молвил ей в ответ:
– Возлюбленное дитя мое, в Санта-Розите не осталось ни одного еврея, нас окружают одни лишь дети Эдома[5], наши смертельные враги.
Мелхола же отвечала:
– Отец, и враги – тоже люди и наши братья.
Раввин промолчал, мысленно сказав себе: «Она не знает этот мир и не понимает горе своего народа…»
Вот что рассказывают люди о смерти прекрасной Мелхолы. В последние минуты она еще раз подняла голову и уже побелевшими устами промолвила:
– Отец, я вижу поцеловавшего меня – он смертельно болен… Помоги ему и его близким, чтобы смерть моя не была напрасной и исполнился завет Господа…
Раввин в отчаянии и горе громко вскричал:
– Мелхола, возлюбленное дитя мое, не покидай меня!..
Но Мелхола бессильно опустила голову, произнесла: «Да будет мне по воле Господа» – и скончалась.
Спустя несколько дней Харон бен Израэль похоронил свою бедную дочь. Ему самому пришлось копать могилу, а затем засыпать ее землей, ибо в Санта-Розите не осталось к тому часу ни одного из его еврейских братьев, и некому было помочь ему.
Возвращаясь с кладбища, он заметил перемены, произошедшие за это время с городом. Страх перед смертельной болезнью, казалось, хотел спрятаться сам от себя. На улицах повсюду веселились люди, водили хороводы и плясали, стараясь забыть о близком призраке чумы под звон веселых струн. Из кабачков доносились бодрый перестук кружек и пение. Лишь изредка попадались ему навстречу процессии молельщиков, направлявшихся к святому Роху, великому защитнику от чумы. Порою хороводы и молитвенные песнопения вдруг обрывались, и гуляки и молельщики, узнав раввина, бросались к нему с громкими криками и торжествующе говорили ему, что Бог милостив и потому удержал его, Харона бен Израэля, в Санта-Розите, несмотря на его резкий отказ отцам города. Другие, полагая, что он теперь поспешит вслед за своими соплеменниками, кричали, что городские ворота уже закрыты и что это промысел Божий – то, что он остался в городе, – и что они его никуда не отпустят. Вскоре раввина так одолели охваченные страхом горожане, что он не знал, как от них отбиться. Все они, завидев его, тотчас же сбрасывали маску беззаботности, то и дело раздавались возгласы:
– Хвала всем святым, что вы еще в Санта-Розите!
И это несмотря на то что на улицах вновь появились соглядатаи инквизиции, пытавшиеся оттеснить толпу просителей от иудея. Но никто уже не обращал на них внимания, и вскоре раввин принужден был укрыться в своем доме, опасаясь, что толпа алчущих помощи разорвет его на части; однако он долго еще слышал их мольбы и причитания перед дверью.
Он тем временем предался молитвам, предписанным его верой, и чтению священных рукописей из домашней библиотеки, уже приготовленных к отъезду, но еще не упакованных и лежавших на полу. Он читал возвышенные слова пророков, сверкавшие, как молнии, над головами детей Эдома, он внимал долгим раскатам грома – их гневу, обрушившемуся на слепцов и строптивцев; ему слышался гнев Божий даже в кроткой напевности псалмов. И разве случайно то и дело попадались ему изречения, подтверждавшие справедливость его собственного гнева и Божьей кары? Он все читал и читал священные рукописи, и тут из кармана его выпал лист бумаги, который он поднял с пола в синагоге, и он прочел слова из Книги притчей Соломоновых: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется… Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою…»[6] Раввину на миг почудилось, будто продолжение стиха гласит: «…и если он болен, исцели его». Но это было написано не для него: Бог его отцов – да про славится имя Его! – слишком ясно выразил ему Свою волю. Боль об умершей дочери все больше отступала перед чувством радости обрушившегося на врагов возмездия.
И вот послышалась жалобная песнь колокольчика смерти, и раввин сказал себе: «Это весть о первых мертвецах». Он знал, с какой быстротой обычно распространяется страшная зараза. И вскоре наступит день, когда он беспрепятственно сможет насладиться зрелищем свершившегося над Санта-Розитой суда.
Колокольцы могильщиков звенели и звенели. По утрам раввин напрасно ждал ударов соборного колокола, звавшего прихожан на утреннюю мессу: должно быть, не осталось никого, кто мог бы привести в движение тяжелый колокол.
Приблизился тот час, когда Бог его отцов излил на детей Эдома полную меру Своей суровости. Но он все еще не покидал своего дома, поджидая настоящего разгула чумы.
На третий день, вечером, явился некто, взломал дверь его дома и грозно молвил:
– Собирайтесь, Харон бен Израэль! Архиепископ велел вам тотчас же явиться к нему.
Душа раввина возликовала: «Враг твой болен и в предсмертном страхе вожделеет твоей помощи, но я не стану помогать ему и тем самым свершу приговор суда, на который Бог отцов моих – да прославится имя Его! – призвал этот город».
Он немедленно отправился к архиепископу, но с первых же шагов его поразило то превращение, что произошло с городом за это время. Все исполнено было запахом смерти! Теперь уже никто не бросался к нему с мольбой о помощи. Пораженные болезнью лежали прямо на дороге, не в силах даже поднять руки. Никто не заботился о них, ибо все боялись заразиться. Окна большинства домов были темны, только зловещая комета влачила за собою свой бледный хвост над гибнущим городом. Не видно было уже веселых плясунов и музыкантов – там, где, должно быть, водили последний хоровод, лежала на земле умирающая девушка дивной красоты с увядшим венком в слабеющих руках; никто из ее подружек и поклонников не отважился поднять ее. Тихо стало и в кабачках, лишь в одном из них дверь вдруг распахнулась, когда раввин проходил мимо, и на улицу выбросили труп, который тотчас же принялись терзать несколько бродячих собак. Время от времени проезжала мимо повозка, доверху груженная мертвыми телами; могильщики, сопровождавшие страшный груз, распевали кощунственные песни, чтобы заглушить ужас, который вселяла в них выпавшая на их долю жуткая повинность. Затем все вновь погружалось в леденящее кровь безмолвие смерти и тлена. Смерть упразднила все чины и сословия, стерла все различия; здесь уже ничего не значили такие понятия, как иудей или христианин, наступило царство безграничного равенства. Последние искры жизни, казалось, угасли – жива была одна лишь смерть.
Стояла зловещая тишина, как будто вымер весь мир. Лишь время от времени раввин слышал где-то в отдалении шаги – или это были отзвуки его собственных шагов? Или все же кто-то еще шагал сквозь чудовищную осиротелость ночного умирающего города? Может быть, какой-нибудь бесстрашный священник, несущий умирающим последнее утешение? Или это и в самом деле всего лишь отзвук его собственных шагов? Но нет, слух не обманул его: кто-то шел впереди. Кто-то, кто еще не был болен, – звук его быстрых упругих шагов отчетливо раздавался в ночной тишине – так мог ходить только здоровый человек.
У него больше не было сомнений: впереди кто-то шел сквозь густой мрак ночи. Но кто-то шагал и рядом с ним.
Чем больше раввин углублялся в смертельно больной город, тем труднее ему было наслаждаться долгожданным триумфом: великий час, который должен был даровать ему Бог его отцов, показал ему иной лик – и зрелище это оказалось ему не по плечу. Все меньше радовалась жаждущая возмездия душа раввина разворачивающимся перед его глазами картинам. Он говорил себе: «Вспомни, что ты – еврей, вспомни жестокости, причиненные твоим братьям и сестрам!» Но он уже забыл об этом. У него было такое чувство, будто рядом с ним идет его возлюбленная дочь и он слышит ее беззвучный, но внятный, ясный голос: «Отец, это люди, как ты и я. И враги – тоже наши братья…» С каждым шагом ему все больше казалось, что его любимая дочь сопровождала его на всем пути от самого дома, что она вовсе не умерла; а затем он вновь услышал ее последнюю просьбу: «Я вижу поцеловавшего меня – он смертельно болен… Помоги ему и его близким, чтобы смерть моя не была напрасной!..» И вдруг он увидел ее наяву, своими собственными глазами! Она стояла посреди гробовой тишины умирающего города, нежное, милое лицо ее с незрячими глазами было мягко освещено луной… Она стояла прямо перед ним, выделяясь из мрака, – так, будто, пройдя с ним вместе весь путь, она опередила отца и теперь поджидала его здесь. Стало вдруг тихо-тихо: шаги впереди тоже замерли.