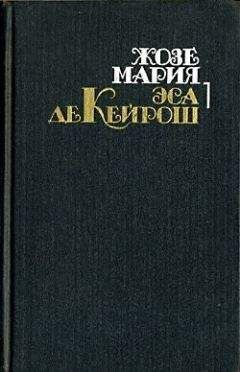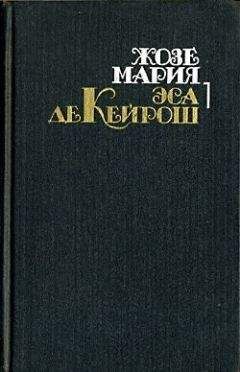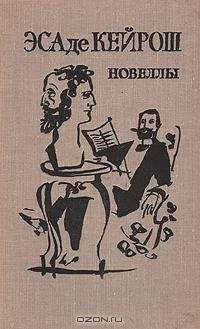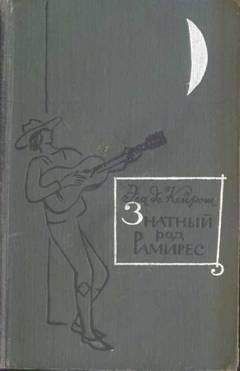Повторяя в ученическую пору уроки мэтров, молодой писатель, как водится, переболел детской болезнью, но переболел довольно быстро, даже на первых порах и даже в подражаниях он проявлял самостоятельность. В отличие от доморощенных наставников. Эса вторил не водянистым стихам Ламартина, а первому среди романтических мастеров социальной иронии — Генриху Гейне. Ориентация на лирико-фантастическую и философскую новеллу немецких романтиков была в какой-то мере тоже формой проявления независимости таланта: бунтуя против рабского равнения на Францию, Эса искал новые пути в сфере немецкой мысли.
Поиски продолжались и на Британских островах. Четырнадцать лет, проведенные в Нью-Кестле и Бристоле, дали возможность органично усвоить завоевания английского реалистического романа, из школы которого Эсе ближе всего был Диккенс. Впоследствии Эса назовет литературу Англии «несравненно более богатой, более живой и оригинальной, чем литература французская».
Но, бунтуя против французского засилия, Эса все же никогда не порвет узы, связавшие его с Францией. И дело здесь не столько в том. что воспитание, данное в детстве, придавало им особую прочность. Не только в том, что историк Мишле и социолог Прудон, поэты Бодлер и Леконт де Лиль были восприняты Эсой в молодости как,откровение. Что Эсу покорили универсальный гений Гюго и проза Флобера. Верность Франции была продиктована всей логикой художественного развития Португалии и европейских литератур.
Насколько мощным был взлет немецкого гения в эпоху «классическую», когда творили Гете и Шиллер, Гегель и плеяда романтиков, настолько же резким оказался упадок литературы в Германии после революции 1818 года. Вплоть до конца столетня немецкая проза не дала великого романа, который мог бы соперничать с творениями, появлявшимися по ту сторону Рейна пли па берегах Темзы. Между тем все более властной политико-социальной потребностью, все более осознанной эстетической необходимостью становился для Португалии тот сурово-критический, жаждущий сути, а не иллюзий реализм, который провозглашали своим девизом Бальзак, Флобер, Золя.
Именно французская литература осталась поэтому первой и главной наставницей Эсы. Надо лишь помнить, что отношение к ней эпигонов португальского романтизма и основателя реалистической школы в корне различно. Первые смотрели на Францию снизу вверх, подобострастно,— Эса берет у нее уроки, не теряя независимости и достоинства, подчиняя благоприобретенный чужестранный опыт отечественной цели. И бесспорное свидетельство тому — роман, подготовленный идеями, выношенными в «Сенакле», высказанными на лекциях в «Казино», выстраданный на протяжении почти пятнадцати лет, отделивших начало литературного ученичества от зрелости.
III
Слова Вольтера о религии — «Раздавите гадину!» — могли бы стать эпиграфом к «Преступлению падре Амаро». Трижды возвращаясь к сюжету, не отпускавшему мысль и сердце со студенческих лет, Эса в каждой новой редакции критичней, жестче, яростней относился к главному герою и окружавшим его святошам. Эса уверен, что слуги отца небесного вреднее для страны, чем ее земные владыки. И что сегодня, как века назад, католицизм остается для Португалии главной опасностью. Эса выходит ей навстречу.
...На рассвете Лейрия узнала, что известный своим обжорством соборный настоятель скончался: удав не переварил рыбы, которую заглотал за ужином. Его не жалели: рыгавший в исповедальне падре Жозе Мигейс был мужланом с повадками землекопа и хриплым голосом, с грубыми ручищами и торчащими из ушей жесткими волосами... Таков облик первого церковника и одновременно первого персонажа, с которым Эса знакомит читателя. Многим ли лучше второй?
Декан кафедрального капитула Валадарес, в отличие от Жозе Мигейса, сухопар, длиннонос, близорук. Настолько близорук, что не видит преступлений, совершаемых под его носом.
На третьего священника стоит взглянуть внимательней, он играет в романе немалую роль. Сутана, обтягивающая большой живот, набрякшие под глазами мешки, жирные губы... Портрет каноника Диаса будто списан «из старинных историй про сластолюбивых и прожорливых монахов». Между внешностью каноника и его внутренней сутью полное единство формы и содержания. Настолько же полное, насколько очевиден разлад между словами его и делами. Дружок пышногрудой Сан-Жоанейры — содержательницы пансиона для холостяков — еще в семинарии преподавал юному Амаро Виейре христианскую нравственность.
В книге создана воистину галерея священнических портретов, среди которых выделяется своей живописностью портрет групповой. Его можно озаглавить: «Званый обед у аббата из Кортегасы». Кажется, что распятый медный Христос, стоящий на комоде, должен страдать не столько от ран, сколько от вида сидящего перед ним «Христова воинства». Во всей своей красе оно предстало, однако, не в час утешения плоти, а в мгновение опасности.
Тут уж напрасно увещевать, что долг христианина прощать обиды. «Кости переломаю! Измордую! Дух вышибу!» — рычит самый глупый в епархии падре Прито, услышав намек на его шашни со старостихой. Бесполезно взывать и к милосердию злющего хорька Натарио, выследившего, какой это «Либерал» настрочил заметку в «Голос округа»: «Для нечестивцев нет милосердия! Инквизиция выжигала их огнем, а я буду вымаривать голодом. Все позволено тому, кто борется за святое дело». «Святое дело» же сводится для падре Натарио к не менее священному принципу: «Не надо было трогать меня».
Перед нами не духовные пастыри, а члены шайки. И они вдвойне опасны, даже грозны, ибо все-таки ведут за собою, как пастыри, стадо фанатиков и фанатичек, способное затоптать каждого, кто попадет ему под копыта.
Эсе почти физически отвратительны злобные кумушки, на которых в Лейрии держатся небеса и земля.
Дону Марию де Ассунсан он награждает хроническим насморком, костлявыми руками, бородавкой на шее с торчащим из нее пуком волос, привычкою дергать головой и, улыбаясь, приоткрывать огромные зубы, которые сидят в деснах, «как вбитые в дерево железные клинья». Эса не пожалеет доне Марии драгоценных перстней, золотых очков, броши на массивной золотой цепи, свисающей от шеи до пояса, лишь бы на этом золотом фоне уродство выглядело еще отвратнее. Эса превратит гостиную доны Марии в какой-то склад святынь, где пресвятые девы в одеждах из голубого шелка теснятся на комодах рядом с толстенькими младенцами Христами и святыми Себастьянами, утыканными со всех сторон стрелами; где громоздятся четки из металла, из цветных бусин, из маслинных косточек; где хранится подлинная щепка от креста господня и реликвия из реликвий — обрывок пеленки младенца Христа, чтобы, завершая портрет, невзначай обронить в конце романа: дона Мария взяла в дом молодого лакея, который раньше был плотником н жил напротив. Теперь парень отъелся, ходит этаким фертом, сигара, часы, перчатки.
Никому из ханжей, лишь прикрывающих набожностью пороки, Эса не даст уйти от разоблачения. Даже усерднейший Либаниньо, который появляется на страницах романа, всегда задыхаясь от спешки, суетясь н попискивая,— «завтра святой Варваре надо раз шесть, не меньше, прочитать «Отче наш»,— который пропадает в казармах, рассказывая солдатикам о страданиях господа нашего Иисуса Христа, в итоге раскрывается со своей не фасадной стороны: поздно вечером в Тополевой аллее его ловят с сержантом и в такой позе, что, увы, не остается сомнений... Так дается фон картины, в центре которой — падре Амаро.
Эса наносит ему свои удары, начиная с легких, но точных уколов.
Сын камердинера и горничной? Что ж, не винить же сиротку. Тем более, что малыш воспитан в доме маркизы де Алегрос, превратившей бога в свое единственное развлечение; среди служанок, втягивающих ребенка в интриги и сплетни: рядом со столь же религиозными, сколь элегантными дочерьми маркизы, день-деньской обдумывающими туалет, в котором они войдут в царство небесное. В конце концов бывает воспитание и похуже — например, в лавке у дядьки-бакалейщика, где подросший «осел», «лопух» Амаро с пяти утра отрабатывал скудный кусок хлеба.
Прослеживая истоки характера, Эса добирается тем самым до корней преступления, в котором виновны или замешаны: семинария, куда Амаро отдали, не спрашивая о желании, и где его научили зубрить бессмыслицу. низко кланяться, выслуживая отметки, подчиняться, как овца, движению стада; священническая каста, со своим отнюдь не евангельским кодексом, согласно которому «все позволено», что не вредит кастовым интересам: строй, который поддерживает эту касту, потому что каста поддерживает этот строй.
Падре Амаро дозревает до своего преступления постепенно. Согрешив с коровницей Жоаной в хлеву, на куче соломы, он поначалу в ужасе от своего скотства и боится войти в церковь — ведь нарушен обет! На первых порах влечение падре Амаро к Амелии не отравлено лицемерием и холодным циничным расчетом. Но вот он подсматривает сцепку между каноником Диасом и Сан-Жоанейрой, проходит школу клеветы у падре Натарио... Чем дальше, тем больше усиливается теперь тоска о временах, когда власть церкви не уступала власти государства и на улицах зажигались костры инквизиции, чтобы в страхе перед пыткой и казнью содрогались бы все, кто обладал счастьем любви, недоступным для него, соборного настоятеля.