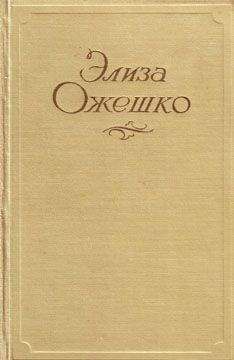— Ну, а сколько тебе будут платить?
Этот вопрос заставил Иоанну очнуться. Она сразу же спустилась, с облаков на землю к своим будничным, очень для нее важным делам, и бодро заявила брату, что заработок невелик, но в их совместной жизни будет значить очень много. К тому же это ведь только начало… Зернышко к зернышку… А потом… потом…
Мечислав встал, выпрямился, подошел к сестре, обнял ее своими худыми руками и крепко поцеловал несколько раз в лоб. Она бросилась ему на шею, обрадованная и удивленная. Проявления нежности у него бывали настолько редки, что таким, как сейчас, она его даже не помнила. Только после того как брат, надев шапку, отправился в канцелярию, а она, погруженная в раздумье, осталась одна в кухне, у нее мелькнула мысль: «Неужели он расчувствовался только потому, что я тоже буду зарабатывать? Значит, он ни о чем, кроме денег, не думал!..»
К вечеру, однако, грустные мысли рассеялись. С наступлением сумерек снизу, из шинка, все настойчивее стали пробиваться крики, стук, невнятный шум. День угасал, и в эту пору в кабаке начиналась жизнь. Отзвуки ночной затаенной жизни словно подтолкнули Иоанну. Она вскочила с табурета, выбежала во двор и быстро прошла к квартире пьяницы слесаря и его жены, прачки. По дороге за ее платье ухватилась маленькая девочка, босая, пухленькая, румяная, и, как утенок, ковыляя рядом с Иоанной, исчезла вместе с ней за дверями темных сеней. Когда, спустя довольно продолжительное время, обе они вышли во двор, за спиной у них показался слесарь. Это был коренастый мужчина с опухшим от пьянства лицом, слезящимися глазами и копной густых взлохмаченных волос над узким лбом. Одежда и весь его вид изобличали свойственные ему пагубные наклонности, хотя на этот раз он не был пьян, а казался только чем-то обрадованным и растроганным. Очутившись за порогом своего жилища, он нагнулся и, схватив руку Иоанны, изо всей силы прижал к своим губам. А в это время большой Костусь, плечистый, угловатый, в грубой парусиновой куртке, тяжело ступая по камням босыми ногами, направлялся с кувшином, полным воды, к лестнице, ведущей в квартиру Липских. С давних пор он охотно оказывал Иоанне различные мелкие услуги по хозяйству.
Странное дело: лоб двенадцатилетнего мальчика был изрыт морщинами, и на людей он смотрел исподлобья, недоверчиво, боязливо, а иногда лукаво и со злобой. Мать Костуся, изнемогавшая от непосильной работы и постоянных огорчений, часто бранила и даже била его; отец же души в нем не чаял, приносил ему из шинка окурки сигар и баранки, от которых пахло водкой. Для мальчишки источником развлечений, удовольствий и познания жизни был шинок. Однако недавно в этом уже успевшем состариться детском сердце впервые расцвело совсем новое чувство, очень далекое от тех, которые возникали у него под впечатлением обиды, страха, в обстановке пьяного разгула и кабацкой ругани. Он никогда еще не видел такой красивой барышни, какой, по его мнению, была Иоанна, не слышал такого ласкового голоса, таких интересных историй, как те, что рассказывала ему она, когда готовила обед или чинила белье. Он помогал ей чем только мог, а часто просто сидел на полу в кухне, прислонившись к стене, охватив руками колени, и смотрел на нее уже не исподлобья — в такие мгновения взгляд у него был открытый, разумный. С тех пор как она попросила Костуся не обижать маленькую Маньку, он никогда больше не бил девочку, не щипал ее и не пугал; напротив, теперь часто можно было их видеть вдвоем, — взявшись за руки, они важно разгуливали по двору. Нередко они вместе поднимались по лестнице и входили в кухню к Липским.
В этой кухоньке с некоторых пор стало очень шумно. Сквозь тонкую стену верхнего этажа слышны были звонкие детские голоса, лепетавшие:
— А… В… С… А… В… С…
Другие дети, постарше, твердили:
— Пчела, хотя она и маленькая, считается полезным насекомым. У нее четыре крылышка, шесть ножек, два рожка и — жало…
Или:
— Пятью шесть — тридцать… От десяти отнять четыре — шесть, и т. д.
Большой Костусь оказался страстным любителем чистописания. Ничто ему так не нравилось, как водить пером по бумаге, нажимая то слабее, то сильнее. Едва научившись писать буквы, он не мог налюбоваться своим искусством. Иоанна сама составила ему фразы — образцы для чистописания. Сделала она это с определенной целью. Мальчик, исписав целую страницу, брал тетрадку в руки, склонялся над столом, чуть сгорбив широкие плечи, и громко, торжественно, с неподдельным удовольствием перечитывал фразы, списанные им с образцов, составленных Иоанной:
— Не делай другому того, чего ты себе не желаешь. Бедность не порок. Жареная дичь в рот не летит… и т. д.
Теперь Иоанна никогда не бывала грустной… Напротив, когда она шла по улицам города, в ее движениях и в выражении лица заметна была большая перемена. Она казалась более бодрой, здоровой и спокойной. В рваной обуви она уже не ходила, и платья ее не были такими поношенными. Она расцвела. Достижения ее были невелики, но всем известно, что представление о «большом» и «малом» весьма условно на этом свете. Для нее даже маленький заработок был настоящим спасением. Одни давали за уроки немного денег, другие старались отплатить, чем только могли. Прачка стирала белье и ей и Мечику; печник, у которого был большой сад, приносил овощи и фрукты; живший напротив них булочник, помимо ежемесячной платы в один рубль, ежедневно присылал небольшой белый хлебец; дворник не брал денег за колку дров, а иной раз еще покупал на рынке что-нибудь в подарок доброй барышне, такой внимательной к его малютке…
Но как же она удивилась, когда заметила, что даже пьяница слесарь и тот старается выразить ей свою благодарность. Хотя благодарность его выражалась довольно своеобразным способом, Иоанна очень ее ценила. Стоило ей появиться на дворе, как этот человек вырастал перед ней словно из-под земли. То, завидев ее, он выбегал из кабака, то появлялся из-за угла дома, где, бывало, праздно сидел целыми часами, то в свои самые благоприятные дни прерывал работу и выходил из своей комнатушки, — короче говоря, всегда с неизменной точностью перед ней склонялась его густая шевелюра, а желтые одутловатые, опухшие губы торопились запечатлеть на ее руке звонкий долгий поцелуй. В сущности это был отвратительный поцелуй пьяницы, и она инстинктивно старалась как можно скорее незаметно вытереть руку; но поцелуй этот был ей дорог и проникал в самое сердце.
Как алмазы, горели от радости ее глаза, когда она принесла и показала брату полдюжины новых белоснежных рубашек, которые она купила взамен тех, что изорвались в клочки. В этот же день она приколола к своей неизменной черной шляпе веточку искусственных цветов… Теперь она смотрела на мир божий смело и спокойно. Но был в городе один-единственный человек, с кем она жаждала встретиться взглядом, где бы она его ни увидела. Ей мучительно хотелось этого, хотя она старалась о нем не думать. Он был так внимателен к ее отцу во время его долгой болезни… Тогда она видела этого человека часто, слушала его беседы со старым учителем… Он был на похоронах отца и, когда она, шатаясь, шла за гробом, взял ее под руку… Больше между, ними не произошло ничего, но она не забыла его, хотя теперь видела только на улице, издали, когда в изящном кабриолете он ездил навещать больных. Всякий раз, заметив ее, он вежливо кланялся. Вот и все. Однако при каждой встрече с ним какая-то струна в ее сердце упрямо дрожала и в часы одиночества пела о нем. Но Иоанна решила: «Это невозможно!» — и в конце концов даже перестала страдать… Как бы то ни было, никто другой не производил на нее и малейшего впечатления… Иногда, в лунные ночи, лежа в постели после трудового дня, но еще не уснув, она смотрела через маленькое окно куда-то вверх… То великое счастье, о, котором она и мечтать не смела, представлялось ей прекрасной радугой, сияющей высоко, высоко над серой землей…
Иной раз она воображала себя маленьким червячком, копошащимся у подножья огромного здания, поднявшегося до самого неба… Именно «у подножья…» — это выражение она не то прочитала где-то, не то слышала. И вот, она взбирается вверх. Чем выше, тем кругом все светлее и радостнее. Какие-то люди трудятся там: приносят неведомо откуда глыбы великолепного мрамора, обрабатывают его, снимают с неба лучи, солнца; ищут драгоценные каменья, украшают ими себя и весь мир.
И вместе с другими подобными ей маленькими существами она собирает в тени какие-то мельчайшие пылинки и настолько поглощена этим занятием, что в ее воображении будущее представляется безмятежным и ясным, и даже неосознанное, навсегда умолкнувшее в груди чувство теперь уже не причиняет ей никакой боли. Лишь изредка она ощущала какую-то безотчетную тоску и печаль.
Часто поздним вечером в, темную или освещенную сиянием луны кухоньку доносились снизу безобразные кабацкие песни, отвратительный смех, разнузданный топот и шум. Дикий этот гам нависал тогда над белой постелью, над мыслями, мечтами и детски-чистым, спокойным сном Иоанны..