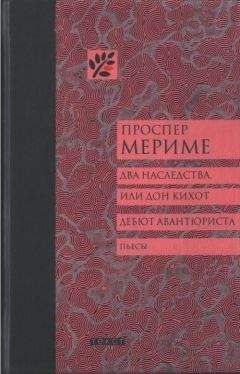— Сегодня вы не особенно проницательны, дядюшка Перен. Перечтите-ка еще раз это письмо: может быть, вы найдете кое-что, чего вы не рассмотрели.
Майор рассмотрел письмо со всех сторон, но ничего не увидел.
— Как! — вскричал Шатофор. — Неужели вы, старый драгун, не понимаете? Ведь она приглашает вас, чтобы доставить мне удовольствие, единственно из желания показать мне, что она считается с моими друзьями… чтобы дать мне понять…
— Что? — перебил его Перен.
— Что? Вы сами знаете что.
— Что она вас любит? — спросил недоверчиво майор.
Шатофор в ответ засвистел.
— Значит, она влюблена в вас?
Шатофор снова свистнул.
— Она призналась вам?
— Но… Мне кажется, это и так видно.
— Откуда?.. Из этого письма?
— Конечно.
Теперь уже засвистел Перен. Свист его был так же многозначителен, как пресловутое «Лиллибулеро»[7] дядюшки Тоби.
— Как! — вскрикнул Шатофор, вырывая письмо из рук Перена. — Вы не видите, сколько в этом письме заключено… нежности… именно нежности? «Дорогой господин де Шатофор», — что вы на это скажете? Заметьте, что раньше в письмах она писала мне просто «милостивый государь». «Я буду Вам вдвойне обязана» — это ясно. И посмотрите, в конце зачеркнуто слово «искренне». Она хотела написать «искренне расположенная к Вам», но не решилась. А «искренне уважающая Вас» ей казалось слабым… Она не кончила письма… Чего вы еще хотите, старина? Чтобы дама из хорошей семьи бросилась на шею вашему покорнейшему слуге, как маленькая гризетка?.. Письмо, уверяю вас, очаровательно, нужно быть слепым, чтобы не видеть всей его страстности… А что вы скажете об упреках в конце письма за то, что я пропустил один-единственный четверг?
— Бедная женщина! — воскликнул Перен. — Не влюбляйся в этого человека: ты очень скоро раскаешься.
Шатофор пропустил мимо ушей восклицание приятеля и, понизив голос, заговорил вкрадчиво:
— Знаете, дорогой, вы могли бы мне оказать большую услугу…
— Каким образом?
— Вы должны мне помочь в этом деле. Я знаю, что муж с ней очень плохо обращается… Из-за этого скота она несчастна… Вы его знаете, Перен. Подтвердите его жене, что он — грубое животное и что репутация у него прескверная.
— О!..
— Развратник… Вы же знаете! Когда он был в полку, у него были любовницы, и какие любовницы! Расскажите обо всем его жене.
— Но как же говорить о таких вещах? Соваться не в свое дело!..
— Боже мой, все можно сказать умеючи! Но главное, отзовитесь с похвалой обо мне.
— Это легче. Но все-таки…
— Не так-то легко, как кажется. Дай вам волю, вы меня так расхвалите, что от ваших похвал не поздоровится… Скажите ей, что с некоторых пор, как вы замечаете, я сделался грустным, перестал разговаривать, перестал есть…
— Еще чего! — воскликнул Перен, громко расхохотавшись, отчего трубка его заплясала самым забавным образом. — Этого я никогда не смогу сказать в лицо госпоже де Шаверни. Еще вчера вечером вас чуть не на руках унесли после обеда, который нам давали сослуживцы.
— Да, но рассказывать ей об этом — совершенно лишнее. Пусть она знает, что я в нее влюблен. А эти писаки-романисты вбили женщинам в голову, что человек, который ест и пьет, не может быть влюбленным.
— Вот я, например, не знаю, что бы могло меня заставить отказаться от еды и питья.
— Итак, решено, дорогой Перен! — сказал Шатофор, надевая шляпу и поправляя завитки волос. — В четверг я за вами захожу. Туфли, шелковые чулки, парадный мундир. Главное, не забудьте наговорить ей всяких ужасов про мужа и как можно больше хорошего про меня.
Он ушел, грациозно помахивая тросточкой, а майор Перен остался, крайне обеспокоенный только что полученным приглашением. Особенно мучила его мысль о шелковых чулках и парадном мундире.
Обед оказался скучноватым, так как многие из приглашенных к г-же де Шаверни прислали извинительные записки. Шатофор сидел рядом с Жюли, заботливо услуживал ей, был галантен и любезен, как всегда. Что касается Шаверни, то, совершив утром длинную прогулку верхом, он здорово проголодался. Ел и пил он так, что возбудил бы аппетит даже у смертельно больного. Майор Перен поддерживал компанию, часто подливал ему вина и так хохотал, что стекла дребезжали всякий раз, когда бурная веселость хозяина давала ему повод для смеха. Шаверни, очутившись снова в обществе военных, сразу обрел и прежнее хорошее настроение, и казарменные замашки; впрочем, он никогда особенно не стеснялся в выборе выражений. Жена его принимала холодно-презрительный вид при каждой его грубой шуточке. В таких случаях она поворачивалась в сторону Шатофора и заводила с ним отдельную беседу, чтобы не было заметно, что она слышит разговор, который ей был в высшей степени неприятен.
Приведем образчик изысканности этого примерного супруга. Под конец обеда речь зашла об опере, стали обсуждать достоинства различных танцовщиц; в числе других очень хвалили мадемуазель Н. Шатофор старался больше всех, расхваливая в особенности ее грацию, стройность, скромный вид.
Перен, которого Шатофор несколько дней тому назад водил в оперу и который был там один-единственный раз, очень хорошо запомнил мадемуазель Н.
— Это та малютка в розовом, что скакала, как козочка? Та самая, о чьих ножках вы так много толковали, Шатофор?
— А, вы толковали о ее ножках? — вскричал Шаверни. — Но знаете: если вы слишком много будете об этом толковать, вы поссоритесь с вашим генералом, герцогом де Ж.! Берегитесь, приятель!
— Ну, я думаю, он не так ревнив, чтобы запрещать смотреть на ее ножки в бинокль.
— Наоборот! Он так ими гордится, будто это он их открыл. Что скажете, майор Перен?
— Я понимаю толк только в лошадиных ногах, — скромно ответил старый вояка.
— Они в самом деле изумительны! — продолжал Шаверни. — Равных им нет в Париже, разве только…
Он остановился и начал крутить ус с самодовольным видом, глядя на свою жену, которая покраснела до корней волос.
— Разве только у мадемуазель Д., — перебил его Шатофор, называя другую танцовщицу.
— Нет! — трагическим тоном Гамлета ответил Шаверни. — «Вы лучше на жену мою взгляните»[8].
Жюли сделалась пунцовой от негодования. Она бросила на мужа молниеносный взгляд, в котором ясно были видны презрение и бешенство. Потом, овладев собой, она вдруг обратилась к Шатофору.
— Хорошо бы нам просмотреть дуэт из «Maometto»[9], — произнесла она слегка дрожащим голосом. — Мне кажется, он будет вам вполне по голосу.
Шаверни не так легко было сбить с позиции.
— Знаете, Шатофор, — не унимался он, — я все хотел заказать гипсовый слепок с ног, о которых я говорю, но никак не мог добиться согласия их обладательницы.
Шатофор с живейшей радостью слушал эти нескромные разоблачения, но делал вид, что, будучи всецело занят разговором с г-жой де Шаверни о «Maometto», ничего не слышит.
— Особа, о которой идет речь, — продолжал неумолимый супруг, — обычно страшно возмущается, когда ей отдают должное по этому пункту, но в глубине души совсем не сердится. Знаете, она всегда заставляет чулочного мастера снимать мерку… Не сердитесь, дорогая: я хотел сказать — мастерицу… И когда я ездил в Брюссель, она три страницы заполнила подробнейшими указаниями по поводу покупки чулок.
Он мог говорить сколько ему угодно, — Жюли твердо решила ничего не слышать. Беседуя с Шатофором, она говорила с преувеличенной веселостью, своей прелестной улыбкой стараясь убедить его, что только его и слушает. Шатофор, по-видимому, тоже был всецело поглощен «Maometto», но ни одна из нескромностей Шаверни не ускользнула от него.
После обеда занялись музыкой, г-жа де Шаверни пела с Шатофором. Как только подняли крышку фортепьяно, Шаверни исчез. Пришли новые гости, но это не помешало Шатофору переговариваться шепотом с Жюли. Выходя, он объявил Перену, что вечер не пропал даром и дела его подвинулись вперед.
Перен находил вполне естественным, что муж говорил о жениных ногах; поэтому, когда они остались с Шатофором на улице одни, он сказал проникновенным голосом:
— Как у вас хватает духа нарушать супружеское счастье? Он так любит свою прелестную жену!
Вот уже месяц, как Шаверни занимала мысль сделаться камер-юнкером.
Может быть, покажется удивительным, что этому тучному, любящему удобства человеку доступны были честолюбивые мечты, но у него было достаточно оправданий своему тщеславию.
— Прежде всего, — говорил он друзьям, — я очень много трачу на ложи для женщин. Получив придворную должность, я буду иметь в своем распоряжении сколько угодно даровых лож. А известно, что с помощью лож можно достигнуть чего угодно! Затем, я очень люблю охотиться, и к моим услугам будут королевские охоты. Наконец, теперь, когда я не ношу мундира, я решительно не знаю, как одеваться на придворные балы; одеваться маркизом я не люблю, а камер-юнкерский мундир отлично мне пойдет.