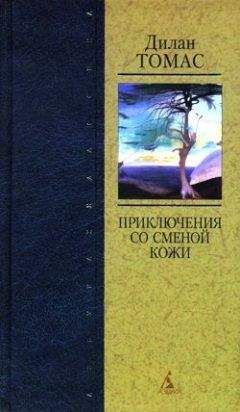Во всей записной книжке он оставил только последнюю страницу. Под изображением длинноволосой девушки, танцующей на адресе, было написано: «Люсиль Харрис». Человек, с которым он познакомился на бульваре, сказал, когда они, сидя на скамейке, смотрели на ноги проходящих: «Она славная. Я ее знаю. Она самая лучшая, она о тебе позаботится. Позвони ей, как приедешь. Скажешь, что ты друг Остина». Эту страничку он положил в бумажник между двумя фунтовыми банкнотами.
Остальные листки он собрал с пола и, скомкав, бросил между ног в унитаз. Затем спустил воду. Влиятельные имена, полезные номера и адреса, которые могли бы столько значить, отправились по клокочущему круглому морю прямо на рельсы. И вот уже на расстоянии мили они перелетают через рельсы и изгороди в поля, проносящиеся мимо, словно молнии.
С домом и вспомоществованием покончено. У него есть восемь фунтов плюс десять шиллингов и адрес Люсиль Харрис. «Многие начинали и похуже, – сказал он вслух. – Но я, невежественный, ленивый и сентиментальный врун, не заслуживаю лучшего».
Ручку снова подергали.
– Вы там наверняка приплясываете, – сказал он из-за запертой двери.
Звук шагов затих вдалеке.
«Как только доберусь, – решил он, – первым делом возьму пива и черствый бутерброд. Я отнесу их за столик в углу, смахну шляпой крошки, а книгу прислоню к графинчику. Я должен представить в деталях только самое начало. Дальнейшее выяснится само собой. Я просижу там до полудня, невозмутимый и спокойный, шляпа на коленях, в руке стакан, с виду ни на день не моложе двадцати, буду как бы читать, наблюдая уголком глаза за деловитым одиночеством пьющих, беспокойных людей у стойки. За другими столиками будет полно народу. Там будут женщины, завлекающие всех кого не лень поверх остывшего кофе, безымянные старики с табачной пылью на щеках, трясущиеся над чаем; тихие мужчины, напряженно ждущие следующего поезда, на котором никто не приедет; женщины, собирающиеся удрать на поезде в Сент-Айвс, или в Ливерпуль, или еще куда-нибудь, хотя прекрасно понимают, что никуда не побегут, они пьют чай, говоря себе: „Я могла бы уехать двенадцатичасовым, но подожду еще четверть часа". Или это. будут женщины из деревни, с дюжиной запущенных ребятишек, или девушки из магазинов, конторские девушки, уличные девки, люди, которые не придумали ничего получше того, что есть, – словом, все несчастные или счастливые в цепях, смущенные приезжие в этом привокзальном буфете городка, который я изучил от корки до корки».
В дверь забарабанили.
– Эй, вы, – раздалось с той стороны. – Вы там сидите уже несколько часов.
Он повернул кран с горячей водой. Струя холодной воды ударила в раковину прежде, чем он успел выхватить шляпу.
– Я директор компании, – произнес он, но голос прозвучал слабо и неубедительно.
Когда шаги снова затихли, он взял сумку и вышел в коридор. Стоя перед купе первого класса, он увидел, как кондуктор и еще один мужчина подошли к двери уборной и замолотили в нее. За ручку они не дергали.
– С самого Нита, – сказал мужчина.
Теперь поезд шел медленнее, покинув пустынные земли, он нырнул в коридор фабрик, проехал, пыхтя, и городские платформы, и высокие дома с разбитыми окнами, и грязные дворы, где пляшет на веревках нижнее белье. Дети в окнах никогда не махали вслед поездам. Для них поезда были все равно что ветер.
Когда поезд остановился под огромной стеклянной крышей, перед дверью уже стояла толпа.
– Бутылку пива, пожалуйста, и бутерброд с ветчиной.
Он отнес их на столик в углу, смахнул шляпой крошки и просидел там до полудня. Он пересчитал деньги: 8 фунтов 9 шиллингов и пенни, примерно на три фунта больше, чем он когда-либо видел. Некоторые получают столько за неделю. Ему этого должно хватить на всю жизнь. За соседним столиком сидел пухлый господин средних лет, с шоколадным родимым пятном на щеке и еще одним на подбородке, как будто с половиной бороды. Едва Самюэль прислонил свою книжку к бутылке, как от стойки отделился молодой человек.
– Привет, Сэм.
– Привет, Рон. Рад тебя видеть.
Это был Рональд Бишоп, живший в Креснт, что у Стенлиз-Гроув.
– Давно в Лондоне, Сэм?
– Только что приехал. Как делишки?
– Нормально. Мы, наверное, ехали в одном поезде. А дела ничего. Ты-то здесь зачем, Сэм?
– Да у меня тут есть чем заняться. У тебя все по-старому?
– Ага.
Им всегда было не о чем разговаривать.
– Где остановился, Рон?
– Привычек не меняю – Стрэнд-Палас.[1]
– Думаю, еще увидимся.
– Давай завтра в баре в полвосьмого.
– Отлично.
– Договорились, не забудь.
– Не бойся.
Оба забыли об уговоре сразу же.
– Пока, увидимся.
– Будь умницей.
Когда Рональд Бишоп ушел, Самюэль тихо сказал в свой стакан: «Это удачное начало. Если я сейчас выйду отсюда и поверну за угол, то окажусь снова на Сорок второй. Маленькие Проберты будут играть в больницу у Стога Сена. Единственный незнакомец поблизости – бизнесмен с покрасневшим лицом, пытающийся прочесть нечто на своих ладонях. Нет, вот еще идет женщина в меховом пальто; она собирается сесть рядом со мной. Да… Нет, нет. Проходя, она обдает меня всеми своими запахами: одеколон, пудра и постель.
Женщина присела через два столика от меня, скрестила нога и припудрила нос.
Уже заигрывает. Теперь она делает вид, что не замечает своих голых коленок. В комнате рысь, леди. Застегните пальто. Она гремит ложечкой о блюдце, чтобы привлечь мое внимание, но, когда я начинаю с серьезным видом смотреть на ее руку, она так невинно и нежно глядит на свои колени, как будто держит на них младенца». Ему понравилось, что Она не нагличает.
«Дорогая мама, – писал он пальцем на обратной стороне конверта, поглядывая на женщину между невидимыми фразами, – сообщаю тебе, что доехал хорошо и сейчас выпиваю с уличной девкой в буфете. Потом напишу, ирландка она или нет. Ей лет тридцать восемь, муж ушел пять лет назад из-за ее выходок. Ее ребенок в приюте, она навещает его через воскресенье. Она говорит ему, что сильно занята в шляпном магазине. Не думай, что она заберет все мои деньги, потому что мы понравились друг другу с первого взгляда. И не воображай, что я разобью свое сердце, пытаясь переделать ее, потому что, воспитанный в убеждении, что Мортимер-стрит – это сама добродетель, я никому такого не пожелаю. Да я и не хочу ее переделывать. Мне она не кажется грязной. С ее работой много уходит на чулки, поэтому нашу маленькую комнату в Пимлико первую неделю буду оплачивать я. Сейчас она идет к стойке за новой чашкой кофе. Надеюсь, ты отметишь, что платит она сама. Все в этом буфете несчастливы, кроме меня».
Когда она вернулась за свой столик, он разорвал конверт и уставился на нее с серьезным лицом – это продолжалось целую минуту по бовриловским часам.[2] Один раз она подняла глаза, но тут же отвела их. Она постучала ложкой по краю чашки, потом щелкнула замком на сумочке, наконец медленно повернула к нему личико и снова быстро перевела взгляд на окно.
«Она, должно быть, новенькая, – подумал он с внезапной жалостью, но не перестал пялиться. – Я должен подмигнуть?» Он надвинул свою тяжелую, мокрую шляпу на один глаз и нарочито подмигнул: его лицо исказилось, а зажженная сигарета почти достала до тупого кончика носа. Она защелкнула сумочку, сунула два пенни под блюдце и выскочила из зала, ни разу не поглядев на него.
«Она оставила кофе, – подумал он. И еще: – Боже мой, она покраснела».
Удачное начало.
– Вы что-то сказали? – зыркнул на него человек с родимым пятном. В тех местах, где его лицо, слегка помятое и небритое, не было коричневым, оно было красным и багровым, словно его хитрость превратилась в невыносимое раздражение кожи.
– Я сказал: «Чудесный денек».
– Первый раз в городе?
– Да, только что приехал.
– И как вам здесь нравится? – Он не проявлял, задавая этот вопрос, ни малейшего интереса.
– Я еще не выходил со станции.
Женщина в меховом пальто сейчас, должно быть, говорит полицейскому. «Мне только что подмигивал невысокий мальчик в мокрой шляпе».
«Но сейчас-то дождя нет, мадам». Это заткнет ей рот.
Он положил шляпу под стол.
– Тут есть на что посмотреть, – сказал его собеседник. – Если вас это интересует. Музеи, картинные галереи. – Он пробегал про себя список развлечений, отвергая их всех до единого. – Музеи, – сказал он после долгой паузы. – Один в Южном Кенсингтоне, Британский музей, один на Уайтхолл, с оружием. Я там везде бывал.
Теперь все столики были заняты. Холодные, напряженные люди убивали время, пялясь в чай или на часы, изобретая ответы на вопросы, которые не будут заданы, оправдывая свое поведение в прошлом и будущем, при этом они топили настоящее, как только оно делало первый вдох, лгали и сожалели, пропускали все поезда в кошмаре своих мыслей, одинокие на этом людном вокзале. По всему залу умирало время. И опять все столики, кроме одного рядом с Самюэлем, опустели. Толпа одиночек удалилась, как похоронная процессия, оставив на газетах пепел и заварку.