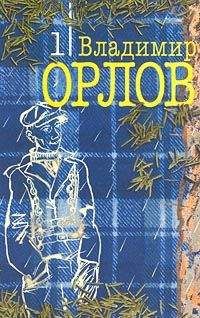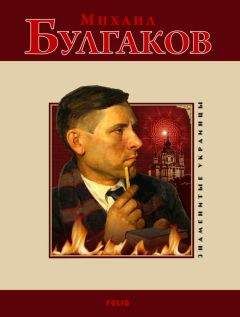— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом.
Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...
Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.
Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла...
«Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию...»
За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» — думал я и, как волк, косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов — он был в виде беловатой трубочки, но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria... Arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. «Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!»
И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости! Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».
Потом вязали лигатурами, потом, щелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане…
Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:
— Жива?
— Жива... — как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна.
— Еще минуточку проживет, — одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается,
— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.
Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.
— Живет... — удивленно хрипнул фельдшер.
Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал — треть ее тела мы оставили в операционной.
Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.
В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.
— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спросила Анна Николаевна. — Очень, очень хорошо... Не хуже Леопольда...
В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало как «Дуайен».
Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны — заметил в глазах уважение и удивление.
— Кхм... я... Я только два раза делал[6], видите ли...
Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.
В больнице стихло. Совсем.
— Когда умрет, обязательно пришлите за мной, — вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:
— Слушаю-с...
Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.
Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.
«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас постучат... Скажут: „Умерла"...»
«Да, пойду и погляжу в последний раз... Сейчас раздастся стук...»
_________
В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.
Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.
Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.
Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.
— В Москве... в Москве... — И я стал писать адрес. — Там устроят протез, искусственную ногу...
— Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец.
Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.
Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.
— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...
И много лет оно висело у меня в спальне[7] в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и наконец исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.
Впервые опубликованы:
«Полотенце с петухом» — Медицинский работник. 1926. № 33, 34. 12, 18 сентября; с подзаголовком «Рассказ Михаила Булгакова» и с подстрочным примечанием: «Из книги „Записки юного врача"»;
«Стальное горло» — Красная панорама. 1925. №33. 15 августа; с подзаголовком: «Рассказ юного врача»;
«Крещение поворотом» — Медицинский работник. 1925. №41, 42. 25 октября, 2 ноября; с подзаголовком: «Записки юного врача»;
«Вьюга» — Медицинский работник. 1926. №2, 3. 18, 25 января; с подзаголовками: «Записки юного врача» и «Рассказ Михаила Булгакова»;
«Звездная сыпь» — Медицинский работник. 1926. №29, 30. 12, 19 августа;
«Тьма египетская» — Медицинский работник. 1926. № 26, 27. 20, 27 июля; с подзаголовком: «Рассказ Михаила Булгакова» и с подстрочным примечанием: «Из готовящейся к изданию книги „Записки юного врача"»;
«Пропавший глаз» — Медицинский работник. 1926. №36, 37. 2, 12 октября; с подстрочным примечанием: «Записки юного врача».
Ни рукописи, ни верстки, ни другие материалы, касающиеся публикации «Записок юного врача», пока не найдены.
Печатаются по текстам первых публикаций.
В этом цикле рассказов повествуется о событиях 1916—1917 гг. и начала 1918 г.
История написания рассказов пока изучена мало. Существуют весьма интересные предположения и догадки на эту тему, но они недостаточно подтверждены точными данными. Поэтому представляется целесообразным последовательно изложить имеющиеся сведения.
Несомненную ценность в условиях почти полного отсутствия других источников представляют воспоминания Татьяны Николаевны Лаппа (1892—1982), первой жены писателя, которая находилась рядом с Булгаковым в селе Никольском и в Вязьме с сентября 1916 по февраль 1918 г. Ее воспоминания отрывочны, иногда несколько противоречивы (быть может, потому, что интервью у нее брали разные люди и в разные годы), но в целом, как показывают исследования, они достаточно объективны. Так вот, она вспоминала: «Когда мы после Никольского попали в Вязьму, Михаил начал регулярно по ночам писать. Сначала я думала, что он пишет пространные письма к своим родным и друзьям в Киев и Москву. Я осторожно спросила, чем он там занимается, на это он постарался ответить уклончиво и ничего не сказал. А когда я стала настаивать на том, чтобы он поделился со мною, Михаил ответил приблизительно так: „Я пишу рассказ об одном враче, который болен. А так как ты человек слишком впечатлительный, то, когда я прочту это, в твою голову обязательно придет мысль, что в рассказе идет речь обо мне". И конечно же, не стал знакомить с написанным, несмотря на то что я очень просила и обещала все там понять правильно. Название же этого рассказа запомнила: „Зеленый змий"» (Запись А. П. Кончаковского. Рукопись).
В этих воспоминаниях все вроде бы логично, за исключением, быть может, названия рассказа. Ведь речь идет, скорее, о сочинении, которое сам Булгаков называл «Недугом». И по времени все совпадает, поскольку именно в Никольском Булгаков вынужден был прибегнуть к морфию, заболев острой формой дифтерита (спасая ребенка, он отсасывал из его носоглотки образовавшуюся пленку, но сам при этом заразился), а в Вязьме его страдания стали почти невыносимыми. И ночная его работа была, видимо, связана с фиксацией наблюдений над самим собою. Поэтому-то он и страшился прочитать жене написанное.