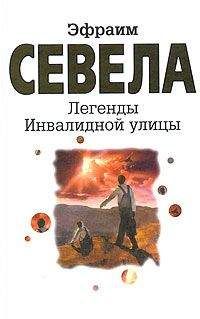— Ради бога, господин адвокат, я готов, я с удовольствием сочиню что-нибудь для вас… А вы это споете, вы должны спеть и станцевать… Лучшего номера не выдумаешь! Вы увидите, вы увидите… я превзойду самого себя… В красном шелковом платьице! Ах, у вашей уважаемой супруги подлинно артистическая натура! Иначе бы ей никогда не пришла в голову такая мысль. Скажите же «да», умоляю вас, согласитесь! Я создам такое, я создам такое… вы увидите.
После этого атмосфера разрядилась, все задвигались, заговорили и, то ли по злобе, то ли из вежливости, наперебой принялись уговаривать адвоката, а госпожа Гильдебранд даже заявила могучим голосом Брунгильды:
— Господин адвокат, ведь вы же всегда такой веселый и общительный!
Тогда наконец сам адвокат обрел дар речи и еще немного желтый, но с выражением отчаянной решимости сказал:
— Выслушайте меня, господа! Что мне сказать? Поверьте, я не гожусь для этого. У меня нет комического таланта, да и, кроме того… короче, нет, это, к сожалению, невозможно.
Он упорно отказывался, и так как Амра больше в разговор не вмешивалась и сидела с отсутствующим выражением лица, откинувшись на подушки, а господин Лейтнер тоже не произнес больше ни слова, погруженный в созерцание узора на ковре, то господину Гильдебранду удалось перевести разговор на другую тему; и вскоре все общество разошлось, так ничего и не решив.
Однако вечером того же дня, когда Амра уже ушла к себе и лежала с открытыми глазами, в спальню тяжелой походкой вошел ее супруг, пододвинул к кровати стул, тяжело опустился на него и, запинаясь, тихим голосом начал:
— Послушай, Амра, откровенно говоря, меня мучают сомнения. Если я сегодня и упорствовал перед гостями, если я был недостаточно учтив с ними — то, бог свидетель, без всякого умысла. Или ты серьезно считаешь… прошу тебя…
Амра помолчала, брови ее медленно поползли вверх, затем, пожав плечами, она ответила:
— Не знаю, что тебе сказать, друг мой. Я никогда не ожидала, что ты будешь так вести себя. Ты в самых нелюбезных выражениях отказался участвовать в нашей затее, хотя все считали это совершенно необходимым, что, собственно, должно было тебе польстить. Ты всех нас, как бы это помягче выразиться, глубоко разочаровал, испортил нам праздник грубостью и нелюбезностью, хотя твой долг хозяина…
Адвокат понурил голову и, тяжело дыша, сказал:
— Нет, Амра, я не хотел быть нелюбезным, поверь мне. Я никого не хочу обидеть и никому не хочу досадить, и если я некрасиво вел себя, то готов загладить свою вину. Речь ведь идет о шутке, о маскараде, о невинной забаве — так почему бы и нет? Я не хочу портить праздник, я согласен…
На другой день Амра, как обычно, поехала «за покупками». Она вышла из экипажа на Хольцштрассе у дома номер 78 и поднялась на третий этаж, где ее уже ожидали. Распростертая в любовном томлении, она прижимала его голову к своей груди, страстно шепча:
— Напиши это для четырех рук, слышишь! Мы вдвоем будем ему аккомпанировать, его пению и танцу. А я позабочусь о костюме…
Странный трепет пробежал по их телам. Они с трудом подавили судорожный смех.
Каждому, кто желает устроить праздник на вольном воздухе и на славу принять гостей, можно безбоязненно порекомендовать зал господина Венделица на Лерхенберге. С живописной пригородной улицы через высокие решетчатые ворота вы попадаете в сад, вернее в парк, в центре которого расположен павильон с обширным залом. Этот павильон, соединенный узкой галереей с рестораном, кухней и пивоварней, сколочен из досок и разрисован веселыми пестрыми картинками в забавном стиле — смесь китайщины и ренессанса; по бокам его имеются большие двустворчатые двери, которые при хорошей погоде держат раскрытыми; тогда в зал, вмещающий уйму народа, проникает дыханье деревьев.
Сегодня разноцветные огоньки уже издали приветливо мигали подъезжающим экипажам. Вся садовая решетка, деревья и стены павильона были густо увешаны пестрыми фонариками, внутреннее же убранство зала представляло поистине очаровательное зрелище. Почти под самым потолком тянулись густые гирлянды таких же бумажных фонариков, хотя между украшениями на стенах — флагами, хвоей и искусственными цветами — и без того сияли бесчисленные электрические лампочки. В конце зала возвышались подмостки, с двух сторон обрамленные лиственными растениями. На красном занавесе парил искусно нарисованный Гений. С другого конца, почти до самой сцены, тянулись длинные, убранные цветами столы, за которыми лакомились весенним пивом и телятиной гости адвоката Якоби: юристы, офицеры, коммерсанты, художники, видные чиновники со своими супругами и дочерьми, — человек полтораста, если не больше. Одеты все были просто: мужчины в черных сюртуках, дамы в светлых весенних платьях, ибо законом сегодняшнего праздника почиталась веселая непринужденность. Мужчины с кружками в руках сами бегали к большим бочкам, стоявшим у стены, и в огромном, пестром и светлом зале, наполненном сладковатым тяжелым запахом хвои, цветов, людей, пива и еды, стоял гул от стука ножей и вилок, от громких нецеремонных разговоров, звонкого, любезного, оживленного и беззаботного смеха.
Адвокат, бесформенный и беспомощный, сидел в конце одного из столов, близ сцены; он мало пил и время от времени, с трудом выжимая из себя слова, обращался к своей соседке, советнице Хаверман.
Он трудно дышал, углы его рта опустились, заплывшие мутновато-водянистые глаза смотрели неподвижно и отчужденно на радостное веселье, словно было в этом праздничном угаре, в этом шумном оживлении нечто бесконечно грустное и непостижимое.
Но вот гостей стали обносить огромными тортами, все перешли на сладкие вина и начали произносить тосты. Господин Гильдебранд, придворный актер, в речи, состоявшей сплошь из классических цитат, даже на древнегреческом языке, воздал хвалу весеннему пиву. Асессор Вицнагель изысканным жестом чокался с дамами и, набрав из ближайшей вазы и со скатерти букет цветов, сравнивал каждую даму с одним из них. Амра Якоби, в платье из тонкого желтого шелка, сидевшая напротив него, была провозглашена «прекрасной сестрой чайной розы».
Выслушав этот тост, она поправила рукой свои мягкие волосы и с серьезным видом кивнула супругу, Толстяк поднялся и чуть было не испортил всем настроение, с противной своей улыбкой пробормотав несколько жалких слов. Раздались жидкие неискренние возгласы «браво», и на миг воцарилось гнетущее молчание. Но веселье быстро взяло верх, и захмелевшие гости начали подниматься из-за столов, курить и собственноручно с грохотом выдвигать из зала мебель; пора было начинать танцы.
Время уже приближалось к полуночи, и непринужденность царила полная. Часть общества высыпала в пестро освещенный сад, чтобы глотнуть свежего воздуха, другая оставалась в зале; собравшись группами, гости курили, болтали, цедили из бочек пиво и тут же пили его.
Но вот ей сцены раздались громкие звуки труб, призывающие всех в зал. Музыканты — с духовыми и струнными инструментами — разместились перед занавесом; стулья расставили рядами, на каждом лежала красная программка, дамы заняли места, а мужчины встали за ними. Наступила тишина, полная напряженного ожидания.
Маленький оркестр заиграл шумную увертюру, занавес раздвинулся, и — смотрите, пожалуйста, — на сцене появилась целая толпа препротивных негров в кричащих костюмах, с кроваво-красными губами. Они скалили зубы и орали во всю глотку.
Концерт поистине стал вершиной праздника. То и дело раздавались восторженные аплодисменты, и, номер за номером, разворачивалась умело составленная программа, Госпожа Гильдебранд вышла в напудренном парике и, стукнув длинной тростью об пол, спела не в меру громким голосом «That's Maria!». Иллюзионист в увешанном орденами фраке превзошел себя в удивительных фокусах, господин Гильдебранд с потрясающим сходством изобразил Гете, Бисмарка и Наполеона, а редактор доктор Визеншпрунг, в последний момент решивший принять участие в вечере, прочитал юмористический доклад на тему: «Весеннее пиво и его социальное значение». Под конец заинтересованность зрителей возросла до предела, предстоял последний номер, обрамленный в программе лавровым венком и гласящий: «Луизхен, пение и танцы. Музыка Альфреда Лейтнера».
По залу прошло движение, все невольно переглянулись, когда музыканты отложили свои инструменты и господин Лейтнер, до сих пор молча стоявший у одной из дверей, сжимая полными губами сигарету, сел вместе с Амрой Якоби за рояль, установленный в центре перед занавесом.
Лицо его раскраснелось, он нервно перелистывал написанные от руки ноты, Амра же, наоборот, несколько бледная, опершись рукой о спинку стула, бросала настороженные взгляды в публику. Но вот раздался резкий звонок, и все вытянули шеи. Господин Лейтнер и Амра сыграли несколько тактов, занавес поднялся, на сцену вышла Луизхен…