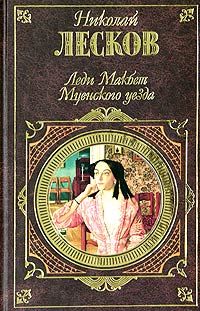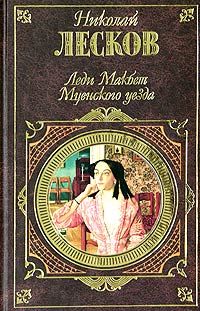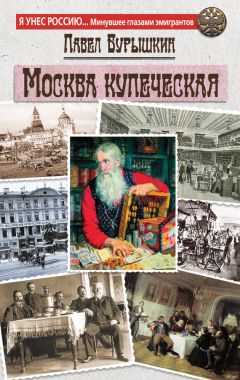Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала; ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдруг сразу прошло. «Зашла, – смекали, – у хозяйки с Сергеем алигория, да и только. – Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».
А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не для них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.
На дворе после обеда стоял пеклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовва закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и смаривает, так лицо потом и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала: «Самовар, – говорит, – под яблонью глохнет». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстющий-толстый… и усы как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел? – думает Катерина Львовна. – Сливки тут-то я на окне поставила: беспременно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его», – решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот у нас взялся? – рассуждает в кошмаре Катерина Львовна. – Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?», – подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице – никакого кота нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.
Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить;
а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер.
– Заспалась я, – говорила Аксинье Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущею яблонью чай пить. – И что это такое, Аксиньюшка, значит? – пытала она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.
– Что, матушка?
– Не то что во сне, а вот совсем наяву кот ко мне все какой-то лез.
– И, что ты это?
– Право, кот лез.
Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.
– И зачем тебе его было ласкать?
– Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.
– Чудно, право! – восклицала кухарка.
– Я и сама надивиться не могу.
– Это беспременно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.
– Да что ж такое именно?
– Ну именно что – уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, что именно, а только что-нибудь да будет.
– Месяц все во сне видела, а потом этот кот, – продолжала Катерина Львовна.
– Месяц это младенец. Катерина Львовна покраснела.
– Не спослать ли сюда к твоей милости Сергея? – попытала ее напрашивающаяся в наперсницы Аксинья.
– Ну что ж, – отвечала Катерина Львовна, – и то правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.
– То-то, я говорю, что послать его, – порешила Аксинья и закачалась уткою к садовой калитке.
Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.
– Мечтанье одно, – отвечал Сергей.
– С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?
– Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим белым телом владею.
Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.
– Ух, голова закружилась, – заговорила Катерина Львовна. – Сережа! поди-ка сюда; сядь тут возле, – позвала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.
Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.
– А ты сох же по мне, Сережа?
– Как же не сох.
– Как же ты сох? Расскажи мне про это.
– Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.
– Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют. Сергей промолчал.
– А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, – как ты на галдарее пел, – продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.
– Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости, – отвечал сухо Сергей.
Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея.
Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.
– Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! – воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц.
Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в воздухе стояло тихо; только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.
Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени. он сосредоточенно глядел на свои сапожки.
Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высоком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалившихся, старых соляных магазинов.
Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.
– Ах, Сережечка, прелесть-то какая! – воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна. Сергей равнодушно повел глазами.
– Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?
– Что пустое говорить! – отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.
– Изменщик ты, Сережа, – ревновала Катерина Львовна, – необстоятельный.
– Я даже этих и слов на свой счет не принимаю, – отвечал спокойным тоном Сергей.
– Что ж ты меня так целуешь? Сергей совсем промолчал.
– Это только мужья с женами, – продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна, – так друг дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так, вот, – шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его с страстным увлечением.
– Слушай, Сережа, что я тебе скажу, – начала Катерина Львовна спустя малое время, – с чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?
– Кому ж это про меня брехать охота?
– Ну уж говорят люди.
– Может быть, когда и изменял тем, какие совсем нестоющие.
– А на что, дурак, с нестоющими связывался? с нестоющею не надо и любви иметь.
– Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблаз действует. Ты с нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь!
– Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, сколько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня, – живая не расстанусь.