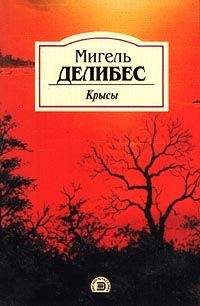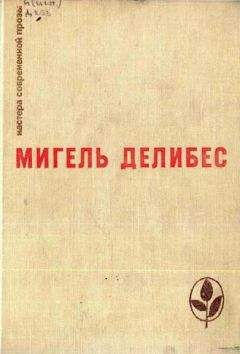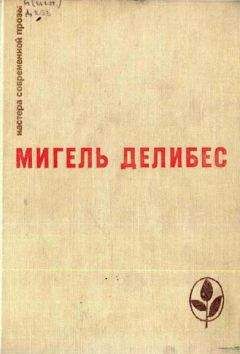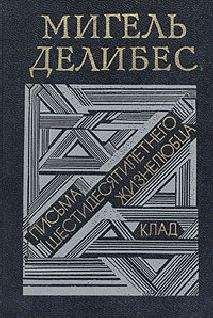— Погода меняется, Нини. Когда будем колоть борова?
Мальчик посмотрел на нее, размышляя.
— Рановато еще, — сказал он.
— А знаешь, бабка твоя так долго не раздумывала.
Нини решительно мотнул головой.
— Нет, сеньора Кло, до святого Дамаса не годится колоть. Я вам скажу, когда.
Он пошел дальше и, заметив свою собаку, бродившую вокруг дома Хосе Луиса, Альгвасила, тихонько ей свистнул. Фа прибежала на зов и покорно пошла за ним, но на углу бросилась на стайку клевавших навоз воробьев. Птицы испуганно вспорхнули; рассевшись по низким карнизам крыш, они нестройно чирикали, а собака глядела на них, задрав голову и нервно виляя обрубком хвоста.
Уже слышались запахи Мастерской Антолиано. Нини заглянул в дверь, всегда открытую даже в самые суровые зимние дни, и с порога увидел Антолиано, который, согнувшись над верстаком, сжимал в крепком своем кулаке рукоять пилы. Мастерская его размещалась в маленькой каморке, заваленной стружками да опилками, в одном углу стояло несколько еще сырых досок. В клетке у окна, поклевывая прутья, безостановочно кружилась приманная куропатка. Одно время Антолиано зарабатывал на жизнь тем, что мастерил селемины и полуфанеги[2], но с тех пор как Управление велело мерить зерно на килограммы, он остался без работы и брался за что ни попадется. Лицо Антолиано в профиль поражало резкой неправильностью носа, словно эта выступающая часть лица, попытавшись расти на хряще, вдруг раздумала и решила сыграть со своим хозяином злую шутку. Шутки шутками, а нос Антолиано смахивал на нос боксера, и для него, гордившегося своей силой и храбростью, это было как-то унизительно. Частенько, когда его даже и не спрашивали, он оправдывался: «Знаешь, кто виноват, что нос у меня лепешкой? Вот эти треклятые руки». Ручищи у Антолиано — теперь осыпанные опилками — были огромные, как две лопаты; если ему верить, однажды, темной ночью, он шел, держа руки в карманах, споткнулся о камень и, не успев вытащить руки из карманов, грохнулся носом об закраину колодца Хустито.
— Привет! — крикнул мальчик с порога.
Собака вбежала в каморку и задрала лапу в углу, возле свежеобструганных досок.
— Эй, ко мне! — крикнул мальчик.
Антолиано хохотнул, не подымая глаз от доски, которую пилил.
— Пусти ее! — сказал он. — Это никому не повредит.
Нини присел на пороге. Мягкое осеннее солнце освещало теперь улочку и верхнюю половину двери Мастерской. Лепиво щурясь на солнце, мальчик спросил:
— Что мастеришь?
— А вот гляди. Гроб.
Нини удивленно обернулся.
— Да? Кто-то помер?
Не прекращая работы, Антолиано отрицательно качнул головой.
— Не здешний, нет, — сказал он. — Из Торресильориго. Ильдефонсо.
— Ильдефонсо?
— Да, старый уже был. Пятьдесят семь лет.
Антолиано положил пилу на скамью и тыльной стороной руки отер пот со лба. На спутанных его волосах белели опилки, и от него исходил нежный, бодрящий запах свежей древесины.
— В столице за это берут с каждым днем все дороже. А всего делов-то, сам видишь — несколько досок сколотить. — И с помрачневшим взглядом прибавил: — Никому не требуется больше.
Он сел у двери рядом с мальчиком на каменную скамью и не спеша скрутил сигарету.
— Адольфо вчера привез мне грибницу. Подвал уже готов, — сказал он, осторожно проводя кончиком языка по клейкому краю бумажки.
— Теперь надо подготовить теплую грядку, — сказал мальчик.
— Теплую?
— Внизу слой навоза, на него — слой хорошо просеянной земли.
Антолиано зажег сигарету зажигалкой и, почти не разжимая губ, спросил:
— Навоз коровий или конский?
— Если делаешь теплую грядку — то конский. Потом надо хорошо полить.
— Ладно.
Антолиано сильно затянулся, лицо у него было задумчивое. С наслаждением выпуская дым, он сказал:
— Если шампиньоны эти хорошо пойдут в подвале, я разведу их еще в землянках, там, у вас.
— В дедушкиной землянке?
— И в землянке Немого, и в Цыганкиной. Во всех трех.
Мальчик взглянул на него неодобрительно.
— Не надо этого делать, — сказал Нини. — Эти землянки, того и жди, обвалятся.
Антолиано скорчил презрительную гримасу.
— Надо рисковать, — сказал он.
Вдруг на ограду соседнего с Мастерской двора взлетел петух, распушил на солнце перья, вытянул шею и издал хриплое «ку-ка-ре-ку». Фа, яростно лая, начала скакать по уличной грязи, тогда петух наклонил голову и зашипел на нее, как гусь.
— Этот петух бесится. Смотри, будешь иметь от него неприятности.
Антолиано поднялся, швырнул окурок в грязь и затоптал его ногой.
— Надо же кому-то стеречь дом.
Он уже вошел было в Мастерскую, как вдруг, будто что-то вспомнив, выглянул из дверей.
— Так говоришь, слой дерьма, а сверху слой земли?
— Да. И хорошенько ее просеять, — ответил мальчик.
Антолиано чуть склонил голову набок и, прежде чем зайти в Мастерскую, дружески помахал гигантской своей рукой. Нини свистнул собаке и вскоре скрылся за уклоном спускавшейся к реке улицы.
Сеньора Кло, что у Пруда, полагала, что Нини наделен знаниями от бога, но донья Ресу, или, как называли ее в деревне, Одиннадцатая Заповедь, уверяла, что мудрость у Нини не от кого иного, как от дьявола: ведь если у двоюродных брата и сестры рождаются глупые дети, то у родных-то и подавно должен был родиться дурачок. Сеньора Кло на это возражала, что, мол, у двоюродных дети бывают и тупые и смышленые, как когда, и ее поддерживал Антолиано, говоря: «А что такое дурак, донья Ресу? Это умный, который притворяется дураком». Донья Ресу возмущалась: «Вот еще выискался со своими теориями». На что Антолиано говорил: «А что — плохо сказал?» И донья Ресу говорила: «Не знаю, плохо ли, хорошо ли, просто язык у тебя без костей!»
Как бы там ни было, всем, что Нини зная, он был обязан только своей наблюдательности. Например, все дети и молодежь приходили к дядюшке Руфо, Столетнему, только ради удовольствия поглазеть, как у него дрожат руки, и потом посмеяться, а Нини ходил из любознательности. Дядюшка Руфо, Столетний, много знал о самых разных вещах. Он всегда говорил пословицами и знал наизусть святых на каждый день. И если не помнил точно, сколько лет ему самому, зато мог очень хорошо рассказать о чуме 1858-го года, о приезде Ее Величества королевы Изабеллы и даже об искусстве Кучареса и Эль-Тато, хотя на корриде в жизни своей не бывал.
Сидя рядом с ним на каменной скамье у входа, Нини не замечал его нервного подергивания. Мальчик часто рта не раскрывал, но ждущий его взгляд, пытливое внимание и взрослая уверенность вопросов и ответов побуждали Столетнего говорить.
Обычно старик начинал беседу со святцев, с погоды, с поля или со всего вместе.
— Пришел святой Андрей, веди счет зимних дней, — говорил он. Или:
— На святого Клемента скороди землю, прикрывай семя.
Или же:
— Дождь на святую Вивиану, будет дождь сорок дней непрестанно.
Нарушив молчание, Столетний заводился надолго. Он-то и научил Нини связывать погоду с календарем, поле со святцами и предсказывать солнечные дни, прилет ласточек и поздние заморозки. Так мальчик научился следить за ежами и ящерицами, отличать длиннохвостку от щурки, голубя-сизяка от вяхиря.
Так же вел себя мальчик раньше, со своими дедушками и бабушкой. У Нини, малыша, было с обеих сторон двое дедушек и всего одна бабушка — не так, как у других. Все трое жили вместе в соседней землянке, и, когда Нини был еще совсем мал, он иногда спрашивал у дядюшки Крысолова — какой из дедушек ему родной. «Оба родные», — отвечал дядюшка Крысолов, смущенно осклабясь в улыбке, вместе глуповатой и хитрой. Дядюшка Крысолов редко произносил больше двух слов кряду. А когда это случалось, он прямо оставался без сил, не столько от физической усталости, сколько от умственного напряжения.
Нини ходил вместе с дедушкой Абундио, Обрезчиком, в Торресильориго, где у дона Вирхилио, Хозяина, было пятьдесят гектаров виноградника и красивый дом с верандой, увитой виноградом, и неуютный сарай, крытый дырявым шифером, где оставались ночевать они, собаки пастухов да эстремадурцы, которые там работали на лесопосадках. В первую ночь дедушка Абундио обычно не ложился — чинил крышу, закладывал дыры дощечками и камнями, чтоб было не так холодно и сыро.
Нини нравилось бывать в Торресильориго — как-никак новое место, — хотя на него наводили страх истории, которые рассказывали эстремадурцы, сидя у очага, где варился их скудный ужин, меж тем как у их ног дремали, свернувшись клубком, собаки пастухов. Пугала его и их брань по утрам, когда дедушка еще до рассвета принимался орудовать скрипучим насосом колодца и плескал водой, умываясь. Эстремадурцы всякий раз грозились выколотить из него душу, но угрозу свою не исполняли — может, потому, что на дворе было слишком холодно.