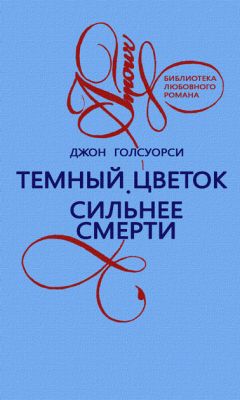Путь вел под гору, через лиственничную рощу, к реке, а оттуда по мосту и вверх по склону через луга, где косили сено. Как мог старик Стормер проспать такое утро! Крестьянские девушки в синих полотняных юбках уже сгребали траву, которую успели накосить мужчины. Одна, работавшая на краю луга, выпрямилась, когда они проходили, и застенчиво им поклонилась. У нее было лицо мадонны — очень спокойное, серьезное, доброе, с тонкими, изогнутыми бровями; глядеть на такое лицо — просто наслаждение. Юноша оглянулся на нее. Здесь все для него, никогда не выезжавшего за пределы Англии, было странным и восхитительным. Маленькие шале с широкими деревянными галереями, выкрашенными темно-коричневой краской, под далеко выступающими краями кровель. Яркие платья крестьянских женщин; и приветливые низкорослые коровы, все желтоватые, как густые сливки, но с серыми короткими мордами. Даже воздух здесь был другой, в нем играло бодрящее, животворное тепло, оно словно бы покрывало легкой коркой недвижный массив мороза; и этот особый аромат предгорий — запах сосновой смолы, запах лиственничных дров и сладкий запах луговых цветов и трав. Но непривычнее всего было его собственное ощущение — гордость, сознание своей значительности, какой-то странный восторг оттого, что он с нею наедине, оттого, что он избран в спутники ею, которая так прекрасна.
Они обогнали всех других пешеходов, шагавших той же дорогой, — это чаще всего были толстяки немцы, у которых за спиной болтались стянутые ремнями куртки, а в руках были тяжелые альпенштоки и зеленые сумки; они двигались ровным, упорным шагом, пыхтя вслед Анне и ее юному спутнику: «Aber eilen ist nichts!»[3]
Но этим двоим все казалось недостаточно быстро, сердца их летели еще быстрее. Это было не настоящее восхождение, а только тренировочная прогулка на вершину Нуволау; к полудню они были уже наверху и скоро пустились в обратный путь, терзаемые муками голода. Добравшись до Приюта Пяти Башен, они поспешили в его маленькую столовую и там застали компанию англичан, которые ели омлеты и, наградив Анну едва узнающими взглядами, продолжали разговаривать какими-то вымученными голосами, лениво нажимая на отдельные звуки и глотая другие с аристократической небрежностью. Почти у всех болтались через плечо бинокли, а на столах и на стульях лежали их фотоаппараты. Чертами лица они не особенно походили друг на друга, но губы у всех у них кривились в одинаковой улыбке, и брови они все поднимали на один манер, так что все казались вариациями единого типа. И зубы почти у всех у них немного выдавались вперед, точно поджатые углы губ выталкивали зубы наружу. Ели они с таким видом, будто вообще-то они не склонны полагаться на чувства низшего порядка и предпочли бы вовсе не ощущать ни вкусов, ни запахов. «Из нашей гостиницы», — шепнула Анна; и, заказав шницели и красного вина, они уселись за стол. Дама, явно возглавлявшая эту компанию англичан, осведомилась, как поживает мистер Стормер — он не болен, она надеется? Нет? Просто ленится? Как странно. Ведь он, насколько ей известно, большой любитель лазать по горам. Юноше почудилось, что эта дама их почему-то осуждает. Разговор в их компании шел между нею и господином, у которого был мятый воротничок и намотанный вокруг шляпы шарф со спущенными концами, а также еще одним господином, коренастым, седобородым, в черной просторной куртке с поясом. Стоило вмешаться кому-нибудь из молодежи, и его замечание встречалось круто вздернутыми бровями, опущенными веками, словно хотели сказать: «Ну что ж, пожалуй, для такого возраста недурно».
— Всего больнее мне наблюдать способность человеческой натуры кристаллизоваться, — так заявила дама-командирша, и юнцы задвигали головами вверх и вниз, выражая согласие.
«Как они похожи на цесарок, — подумал Марк, — головки маленькие, плечики покатые, одежда серенькая, в крапинку».
— Ах, сударыня (это вступил господин с помятым воротничком), вы, романисты, все время нападаете на драгоценное умение следовать традициям. А беда нашего времени — это нынешний дух сомнения. Никогда еще не была так велика у нас тяга к бунту, особенно среди молодежи. Когда индивид начинает рассуждать — это уже тяжелый симптом национального вырождения. Но данная тема едва ли подходит…
— Поверьте, что эта тема, безусловно, представляет животрепещущий интерес для нашей молодежи. — И снова юнцы подняли головы и повели ими легонько из стороны в сторону.
— О нет, боюсь, что мы позволяем занимательности заслонять от нас вопрос о целесообразности обсуждения некоторых предметов. Мы даем свободу подобным философствованиям, и они оплетают и опутывают нашу веру и парализуют ее.
Тут вдруг один из юнцов воскликнул: «Madre!..»[4] — и умолк.
— Да простится мне такая вольность, — снова откликнулась дама, — но я скажу, что рассуждения опасны только тогда, когда ими занимаются грубые умы. Если культура нам ничего не дает, тогда откажемся от культуры; но если культура, как полагаю я, насущно необходима человечеству, тогда нам остается только принять и те опасности, которые она с собою несет.
И снова ее молодые собеседники задвигали головами, и младший из двух слушавших ее юнцов произнес: «Madre…»
— Опасности? Разве культурным людям грозят опасности?
Кто это спросил? Все брови высоко поднялись, углы губ у всех опустились, и стало тихо. Марк Леннан с изумлением смотрел на свою спутницу. Каким странным тоном задала она этот вопрос! И в глазах ее точно горело пламя. Наконец маленький господин с седой бородкой ответил ей своим тихим голоском, прозвучавшим на этот раз холодно и ядовито:
— Все мы, сударыня, живые люди.
Анна рассмеялась, и у Марка громко застучало сердце: смех ее звучал так, словно она хотела сказать: это вы-то живые люди? И, встав, он вышел вслед за ней из столовой. А там уже снова завязалась беседа — о погоде.
Они отошли уже довольно далеко от Приюта, когда Анна заговорила:
— Вам не понравилось, что я рассмеялась, да?
— По-моему, вы их обидели.
— А я и хотела. Терпеть не могу ваших английских надутых блюстителей нравов! Право же, не сердитесь на меня. Ведь они и в самом деле надутые ханжи — все до единого, верно?
И она такими глазами заглянула ему в лицо, что кровь прихлынула к его щекам и голова закружилась, — его точно магнитом тянуло к ней.
— У них в жилах водица, а не кровь! Какими голосами они разговаривают, какими презрительными взглядами окидывают тебя с головы до ног! О, я их знаю! И эта женщина с ее либерализмом, она не лучше, чем остальные. Ненавижу я их всех!
Ради нее он тоже готов был их возненавидеть; но они казались ему всего лишь забавными.
— Разве они живые люди? Они не умеют чувствовать! Вы еще их когда-нибудь узнаете. Тогда они не покажутся вам забавными.
И она продолжала негромким, задумчивым голосом:
— И зачем только они приезжают сюда? Здесь все такое молодое, теплое, живое. Лелеяли бы свою культуру там, где не знают, что значит страдать, испытывать голод, где ни у кого не бьется сердце. Вот послушайте!
Охваченный беспредельным смятением, он сам не сумел бы сказать, где так стучит кровь: в ее сердце или у него в ладони. Рад ли он был, когда она отпустила его руку?
— Пусть! Сегодняшний день им все равно не испортить. Давайте отдохнем.
На опушке лиственничной рощи, где они присели отдохнуть, росли розовые горные гвоздики с бахромчатыми лепестками и чудесным ароматом. Анна вскоре встала и принялась рвать их. А он остался сидеть на месте, и какие-то странные чувства теснили ему грудь. Синева небес, перистая хвоя лиственниц, очертания гор — все было для него сейчас не таким, как утром.
Она возвратилась с большим букетом розовых гвоздик и разжала пальцы прямо над ним, засыпав его цветами. Они падали ему на лицо, на шею. Никогда еще не вдыхал он такого запаха, не испытывал такого странного чувства. Они цеплялись за его волосы, сыпались на лоб, слепили глаза, один цветок повис у него на губах; а он глядел на нее сквозь бахрому их розовых лепестков. И, верно, было что-то в его взгляде, какое-то отражение теснившего ему грудь чувства, ибо улыбка сбежала с ее лица; она отошла и стала спиной к нему. Смущенный, растерянный, он подбирал с земли рассыпанные цветы, и только собрав все до единого, поднялся и робко отнес их к ней туда, где она стояла, задумчиво глядя в полумрак рощи.
Что знал он о женщинах, чтобы понять? В школьные годы он не был знаком ни с одной; в Оксфорде — только с этой. Дома, куда он приезжал на каникулы, тоже не было женщин, если не считать его сестры Сесили. Две страсти их опекуна — рыбная ловля и местные древности — не располагали к светской жизни; так что покой старинного девонширского дома, с его панелями из мореного дуба и обнесенным каменной оградой запущенным парком над рекою, годами не смущало присутствие представительниц слабого пола, помимо Сесили и ее гувернантки мисс Тринг. И, кроме того, Марк был застенчив. Нет, в его прошлом, не насчитывающем еще и девятнадцати лет, не было ничего, что помогло бы ему сейчас. Он не принадлежал к тем молодым людям, которые только и думают, что о легких победах. Ему такие мысли казались грубыми, низкими, отвратительными. Немало понадобилось бы ясных признаков, прежде чем он догадался бы, что женщина в него влюблена, в особенности женщина, которую он высоко чтит и которую считает такой прекрасной. Ибо перед красотой он преклонялся, самого же себя видел грубым, нескладным. То была священная сторона жизни, и приближаться к ней надлежало с трепетом. Чем больше возрастало его восхищение, тем трепетнее и смиреннее делался он сам. И потому после той смятенной минуты, когда она засыпала его благоухающими цветами, он испытывал неловкость; и, шагая рядом с нею, был еще молчаливее, чем всегда, и смущен до глубины души.