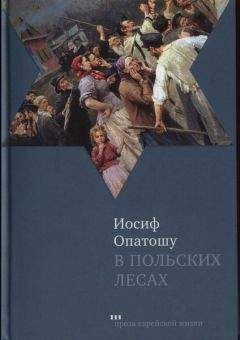Третьим, совершенно отличным от тех, типом крестьянина был Шимон Дзюрдзя. Низкорослый, тощий, с вьющимися, спутанными волосами, целиком закрывавшими лоб, с маленьким вздернутым носом и полуоткрытым ртом, уже немолодой, некрасивый человечек, видимо злоупотреблявший алкоголем, от которого он отупел и почти превратился в животное. Бледноголубые, воспаленные от пьянства глаза его, казалось, плавали в какой-то нездоровой влаге; время от времени он утирал слезу толстым темным пальцем и бессмысленным движением размазывал ее по худой, желтой щеке. Взгляд его, жесты, поза выражали ужас, смешанный с ожесточением. Встревоженный, раздраженный, одуревший, он стоял с разинутым ртом и то сплетал, то опускал руки, не зная, куда их девать.
Моложе всех, еще совсем молодым был сын бывшего старосты Петра Дзюрдзи, Клеменс, которому едва исполнилось двадцать два года. Этот красивый светлорусый парень с круглым румяным лицом и голубыми, как небо, глазами казался привольно выросшим на просторе полевым маком, насильственно пересаженным в эту людскую толчею, где в пронизанной искусственным светом, грозной атмосфере решалась его судьба. Преобладающим чувством, отражавшимся на его юношеском, свежем, как заря, лице, был стыд. Когда в первый раз к нему обратились взоры публики, огненный румянец вспыхнул на его лбу и щеках. Снова он покраснел, произнося слово: «Признаю!», а потом краснел каждый раз, когда во время судебного разбирательства называли его имя. Минутами он задумывался и смотрел куда-то вдаль. Тогда на глаза его навертывались слезы. Минутами молодое любопытство брало в нем верх над всеми другими чувствами, и он искоса, робко, но жадно разглядывал все, что его окружало и чего под своей соломенной кровлей он никогда не видел даже в мечтах. Боже мой! Как тут светло, будто раскрылись небеса и излили на землю все свое сияние; а как тут людно, будто полсвета сюда сбежалось; и какие тут все нарядные, будто собрались на веселый пир. А он тут зачем? — Он преступник, которого будут судить. К чему его присудят? Один только бог знает. За этими стенами веют божьи ветры и летят к родной деревушке, к той хате летят, где сидит, заломив руки, его старая мать, летят к тому полю, которое он уже несколько лет пахал; тогда светило ясное солнышко, пахли травы и сердце стучало ровно, тихо и весело, а не билось в груди от стыда и страха, точно колокол на похоронах...
Значит, вот эти четыре человека совершили то страшное злодеяние, мрачное, как сновидение зимней вьюжной ночи? И тогда тоже была зимняя вьюжная ночь... Но почему? Как это случилось? По каким побуждениям и по чьему подстрекательству?
Из показаний свидетелей, из всего судебного разбирательства, из тщательно собранных впоследствии и внимательно выслушанных рассказов людей, из признаний подсудимых защитнику — от начала и до конца раскрылась перед теми, кто пожелал с нею ознакомиться, следующая история.
В Сухой Долине царило брожение умов; оно нарастало день ото дня, проявляясь в необычайном волнении. Что же так растревожило обитателей чуть не всех сорока хат этой утопающей в садах деревеньки, которая живописно раскинулась среди колышущихся нив, окаймленных осиновыми и березовыми рощами? Деревня выглядела зажиточной; кое-где попадались, правда, убогие и низенькие обветшалые хаты, но немало было и таких, что красовались белеными трубами, большими окнами и высокими, на столбиках, крылечками с узкими скамейками для сидения. Опоясанные рощами поля казались плодородными и тщательно возделанными, за ними зеленели луга и тучные пастбища, в огородах ждала уборки разросшаяся конопля и поспевали пышные кочаны капусты, отцветший картофель сулил добрый урожай, а густо посаженные вишни, должно быть, в изобилии давали плоды. Нужда, видно, редко заглядывала сюда, да и то лишь в самые бедные хаты, а в богатых, верно, вдоволь было не только хлеба, но даже молока и меду, а может быть, и денег. Что же так взбудоражило в этот тихий летний вечер жителей Сухой Долины? Почему столпились бабы у одного из самых богатых дворов и о чем они толковали с таким жаром, что на шум сбежались ребятишки со всей деревни? Девочки, начиная с семи- или восьмилетних и кончая подростками лет четырнадцати, в синих юбчонках и серых кофтах, босиком, в красных платочках, из-под которых выбивались льняные прядки волос, выстроились в ряд у плетня и, сложив на животе темные, как земля, руки, с любопытством таращили голубые или карие глаза, в которых мелькали искры, зажженные заходящим солнцем. Уставясь на баб, они жадно слушали, а бабы не унимались, размахивали руками и кричали. Мальчишки разных возрастов обступили баб, но они не стояли смирно, как девочки, жавшиеся у плетня. Загорелые, с белесыми вихрами, все, как один, босоногие, в серых холщовых рубашках и штанах, они шныряли между матерями и тетками; задрав головы кверху, весело и дерзко заглядывали им в лица и, передразнивая яростный бабий галдеж, кривлялись и озорничали. Старшие дергали женщин за фартуки, приставали и вмешивались в разговоры; какой-то мальчуган лет четырех, в длинной до пят рубахе, со вздутым животом и желтыми одутловатыми щеками, засунул палец в слюнявый рот и, тупо глядя на мать немигающими голубыми глазами, плаксиво и протяжно ныл:
— Тя-тя!
В узком дворике за хатой, возле которой толпились бабы и ребятишки, тоже стоял гомон, но не такой громкий: тут собрались мужики, а говорили они меньше и тише. Один из них поставил у входа в конюшню чурбак и, присев на корточки, колол его на мелкие полешки. Он работал, опустив голову и не разгибая спины, с такой сосредоточенностью, как будто совершал некий торжественный и весьма важный обряд. То был немолодой, худощавый, но еще крепкий и бодрый человек, один из самых богатых и умных хозяев в Сухой Долине, владелец этой хаты Петр Дзюрдзя. Возле него стояли два молодых, но уже взрослых парня — его сыновья, за ними нисколько не похожий на Петра, хотя и доводившийся ему двоюродным братом, — Стефан, или, как его называли в деревне, Степан Дзюрдзя; он смотрел, как работает Петр, с мрачным выражением, застывшим на преждевременно постаревшем, помятом и как бы обожженном лице. Еще дальше стоял Шимон Дзюрдзя, тщедушный, жалкого вида мужичонка, от которого, едва он дохнет, сильно разило водкой. Должно быть, от водки налились кровью белки его глаз и ввалились пожелтевшие щеки, и она же, наверно, была причиной того, что ходил Шимон босой, в рваной рубахе, тогда как другие носили добротные, домотканного сукна кафтаны и прочные, хотя и грубые, сапоги. Кроме пятерых Дзюрдзей, во дворе собралось еще душ пятнадцать мужиков, молодых и старых; одни волновались больше, другие меньше, но, видимо, всех чрезвычайно занимало то, что делал Петр Дзюрдзя: они с живейшим любопытством следили за каждым его движением, переглядывались, пожимали плечами и посмеивались, перекидываясь словами и восклицаниями. Между тем женщины за воротами все галдели, размахивали руками и старались перекричать друг друга: иная бабенка, распалясь сверх меры, вдруг так и присядет либо хлопнет по спине или по лицу какую-нибудь соседку, а та, торопливо обернувшись, оттолкнет ее и опять затараторит свое, пока у нее дух не займется, пока не сорвется голос на самой высокой и пронзительной ноте, какую только может издать человеческая гортань. Таким вот истошным голосом крикнула одна из баб, заглядывая во двор:
— Петр! Эй, Петр! Да ты кончишь ли когда, или нет? А то сядет солнце, и заместо людей одни собаки будут бегать в поле!
— Пора идти, как бог свят, пора! — подхватило хором несколько визгливых голосов.
— И не стыдно вам, Петр, столько копаться? — присоединились другие. — Эх! А еще мужик! Баба — и та скорей нащепала бы эту лучину... Тоже хозяин важный!
Петр Дзюрдзя будто ничего не слышал, будто и не к нему обращались — даже головы не поднял, не пошевелил губами. Он все рубил и колол чурбак на мелкие полешки, истово и торжественно, словно священнодействуя, — казалось, вот-вот он осенит крестом и себя и щепу. Оба парня, стоявшие рядом с ним, обернулись к Степану Дзюрдзе, двоюродному брату Петра, и одновременно спросили:
— И нету? Ничего нету?
Расстроенный Степан, сморщившись, отвечал:
— Все равно что ничего! Каплю пустит и, хоть ты ее убей, больше не даст! Малого, когда разорется, и то нечем напоить...
— А-а-а-а-а! — громко и протяжно удивлялись парни.
— А раньше как? — спросил кто-то сбоку.
— Раньше, — отвечал мужик, — раньше, бывало, и больше ведра давали...
— Две у тебя?
— Две.
— Это как у меня, — заметил тщедушный Шимон, — одна ведь она, а, бывало, с ведро даст...
Мужики подталкивали друг друга, показывая глазами на мрачное лицо Степана.
Чей-то насмешливый голос протянул:
— Ох, и беда тебе, Степан! Теперь там у тебя такое пекло — чертям жарко...
Другой, грубо захохотав, подхватил:
— Я слышал вчера: орала она у себя в хате, чисто бесноватая...