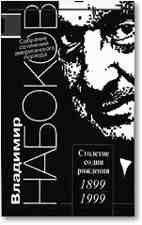Вряд ли стоит указывать, что понятия м-ра Гудмена о русской жизни не ближе к истине, чем, скажем, представления калмыка об Англии как о мрачной стране, в которой школьные учителя с рыжими бакенбардами нещадно секут детишек. На самом деле – и это следует подчеркнуть, – Себастьян рос в обстановке интеллектуальной изысканности, в которой духовное изящество русского домашнего уклада сочеталось с лучшими из сокровищ европейской культуры, и какими бы ни были воспоминания Себастьяна о России, сложная и особенная их природа никогда не опускалась до вульгарного уровня, мысль о котором внушает нам его биограф.
Я вспоминаю Себастьяна – мальчика, шестью годами старшего меня, творящего великолепную акварельную неразбериху в уютном свете царственной керосиновой лампы, чей розоватый шелковый абажур кажется написанным его же мокрой кистью – теперь, когда он рдеет в моей памяти. Я вижу и себя ребенком лет четырех-пяти, привставшим на цыпочки, тянущимся и ерзающим в попытках как следует рассмотреть ящичек с красками, заслоняемый подвижным локтем единокровного брата: клейкие красные с синими, до того уже вылизанные и истертые, что в их выемках поблескивает эмаль. Легкое дребезжание слышится всякий раз, что Себастьян смешивает цвета в жестяной крышке, и вода в стоящем обок стакане клубится волшебными красками. Его темные коротко остриженные волосы обнаруживают родинку, видимую над ало просвечивающим ухом, – я уже вскарабкался на стул, – но он по-прежнему не обращает на меня никакого внимания, пока, сделав рискованный выпад, я не пытаюсь коснуться самой синей лепешки в ящичке, и тогда, дернув плечом, он отталкивает меня, так и не обернувшись, так и оставшись холодным и молчаливым, – каким он был со мною всегда. Я помню, как, заглянув через перила, я увидал его всходящим после школы по лестнице, в черной форме с кожаным ремнем, о котором я втайне мечтал; он поднимался медленно, ссутулясь, волоча за собой пегий ранец, поглаживая перила, время от времени перетягивая себя через две-три ступеньки зараз. Губы мои пучатся, я выдавливаю белый плевочек, который падает вниз, вниз, всегда минуя Себастьяна; я делаю это не оттого, что хочу ему досадить, но в томительной и тщетной надежде заставить его заметить, что я существую. Есть и еще живое воспоминание: на велосипеде с очень низким рулем он едет по испещренной солнцем тропе через парк нашей загородной усадьбы, медленно заворачивает, не тронув педалей, а я семеню за ним, прибавляя ходу, когда его ступня в сандалии отжимает педаль, я изо всех сил стараюсь не отстать от пощелкивающего и пришепетывающего заднего колеса, но он не замечает меня, и вскоре я отстаю безнадежно, вконец запыхавшись, но все продолжая семенить.
Потом, позже, когда ему было шестнадцать, а мне десять, он иногда помогал мне с уроками, давая пояснения так торопливо и нетерпеливо, что никогда ничего путного из его помощи не получалось, и спустя несколько минут он совал карандаш в карман и гордо удалялся. В ту пору он был высок, бледен, с темной тенью над верхней губой. Волосы теперь разделялись глянцевитым пробором, он писал стихи в черной тетради, которую держал под замком в ящике стола.
Я обнаружил однажды, куда он прячет ключ (в щель в стене его комнаты, рядом с белой голландкой), и открыл этот ящик. Там была тетрадь и еще фотография сестры одного из его школьных приятелей, несколько золотых монет и муслиновый мешочек с засахаренными фиалками. Стихи были английские. Незадолго до смерти отца нам давали дома уроки английского, и хоть я так и не смог научиться бегло говорить на этом языке, читал и писал я с относительной легкостью. Смутно помню, что стихи были очень романтичные: все мрачные розы и звезды, и зовы морей; но одна подробность встает в моей памяти очень ясно: под каждым стихотворением был вместо подписи чернилами нарисован черный шахматный конь.
Я попытался создать связную картину того, каким мне виделся брат в те мои детские лета между, скажем, 1910-м (первым моим сознательным годом) и 1919-м (годом, когда он уехал в Англию). Однако задача оказывается мне не по силам. Облик Себастьяна не возникает как часть моего отрочества (подвергаясь вследствие этого бесконечному отбору и развитию), не возникает он и в виде ряда привычных видений, нет, он является мне лишь в нескольких ярких пятнах, словно бы Себастьян был не постоянным членом нашей семьи, но каким-то случайным гостем, проходящим освещенными комнатами и после надолго теряющимся в ночи. Я объясняю это не столько тем, что собственные мои детские интересы препятствовали сколько-нибудь сознательным отношениям с ним, недостаточно юным, чтобы стать мне товарищем, и недостаточно взрослым, чтобы меня направлять, но всегдашней отчужденностью Себастьяна, которая, при том что я нежно его любил, никогда не снисходила до признания моей привязанности и не давала ей пищи. Я мог бы, пожалуй, изобразить, как он ходил или смеялся, или же как чихал, но все это будут не более чем разрозненные куски порезанной ножницами фильмы, ничего не имеющие общего с запечатленной в ней драмой. А драма была. Себастьян так и не смог забыть своей матери, не смог он забыть и того, что отец его умер ради нее. То, что имя ее никогда в нашем доме не упоминалось, добавляло болезненной прелести памятным чарам, переполнявшим его восприимчивую душу. Я не знаю, мог ли он сколько-нибудь ясно припомнить то время, когда она была женою отца; вероятно, отчасти мог – как мягкий свет на заднике своей жизни. Не могу я сказать и того, что испытал он, когда девятилетним мальчиком снова увидел мать. Мама говорит, что он был вял и косноязычен и после никогда не упоминал об этой короткой и трогательно незавершенной встрече. В “Утерянных вещах” Себастьян намекает на смутно горькие чувства по отношению к счастливо женившемуся отцу, чувства, сменившиеся восторженным преклонением, когда он узнал причину его роковой дуэли.
“Мое открытие Англии, – пишет Себастьян (“Утерянные вещи”), – вновь оживило во мне самые сокровенные воспоминания... После Кембриджа я поехал на континент и провел две тихих недели в Монте-Карло. По-моему, там есть какое-то казино, и в нем играют, коли так, я его проглядел, потому что большую часть времени у меня отняло сочинение моего первого романа – весьма претенциозной вещицы, которую, рад сообщить об этом, отвергло едва ли не столько же издателей, сколько читателей имелось у моей следующей книги. Как-то я предпринял дальнюю прогулку и отыскал городок, называемый Рокебрюн. Это здесь, в Рокебрюне, тринадцать лет назад умерла моя мать. Хорошо помню день, когда отец говорил со мной о ее кончине, и название пансиона, в котором это случилось. Он назывался “Les Violettes”[2]. Я спросил шофера, знает ли он этот дом; он не знал. Тогда я спросил у торговца фруктами, и он показал мне дорогу. Наконец я пришел к розоватой вилле, крытой обычной в Провансе круглой красной черепицей, и увидел букетик фиалок, неумело намалеванный на калитке. Так значит, вот этот дом. Я пересек сад, заговорил с хозяйкой. Она сказала, что только недавно приняла пансион у прежних владельцев и ничего о прошлом не знает. Я попросил разрешения посидеть немного в саду. Старик, голый настолько, насколько я мог его видеть, таращился на меня с балкона, но больше никого вокруг не было. Я присел на синюю скамью под большим эвкалиптом с наполовину облезлым стволом, какие, похоже, всегда бывают у этих деревьев. Я старался увидеть розовый дом, и дерево, и весь облик этого места такими, какими их видела моя мать. Я жалел, что не знаю в точности окна ее комнаты. Судя по названию виллы, перед глазами у ней, верно, была вот эта куртина лиловатых фиалок. Понемногу я довел себя до такого состояния, что на миг розовое и зеленое замерцало и поплыло, как бы видимое сквозь пелену тумана. Моя мать, смутная, тонкая фигура в огромной шляпе, медленно всходила по ступенькам, которые, казалось, таяли в воде. Жуткий, глухой удар привел меня в чувство. Из бумажной сумки у меня на коленях выкатился апельсин. Я подобрал его и покинул сад. Через несколько месяцев, в Лондоне, я познакомился с ее двоюродным братом. В разговоре я упомянул, что навестил место ее смерти. “А, – сказал он, – так это был другой Рокебрюн, тот, что в Варе”.
Любопытно отметить, что м-р Гудмен, цитируя это же самое место, удовлетворенно отмечает, что “Себастьян Найт был до того обольщен бурлескной стороной вещей и столь неспособен интересоваться их серьезной основой, что ухитрялся, не будучи от природы ни циничным, ни бессердечным, вышучивать интимные чувства, справедливо почитаемые священными всем остальным человечеством”. Не диво, что этот важный биограф оказывается не в ладу со своим героем при каждом повороте повествования.
По причинам, уже упомянутым, я не стану пытаться описывать отрочество Себастьяна в какой-то последовательной связи, которой я достиг бы естественным образом, будь Себастьян выдуманным персонажем. Когда бы так, я мог бы надеяться, что сумею и развлечь, и наставить читателя, рисуя гладкое перетекание героя из детства в юность. Но если бы я попробовал проделать это с Себастьяном, я получил бы одну из тех “biographies romancées”[3], что являют собою наихудший из выведенных доныне сортов литературы. Пусть поэтому закроется дверь, оставив лишь тонкую линию напряженного света понизу, пусть и лампа погаснет в соседней комнате, где улегся спать Себастьян; пусть прекрасный оливковый дом на набережной Невы неторопливо растает в сизо-серой морозной ночи, с нежно падающими снежными хлопьями, медлящими в лунно-белом сиянии высокого уличного фонаря и понемногу укрывающими могучие члены двух бородатых консольных фигур, с атласовой натугой подпирающих эркер отцовской спальни. Отец мой мертв, Себастьян заснул или, по крайней мере, затих, словно мышь, в комнате рядом, а я лежу в постели без сна, уставясь в темноту.