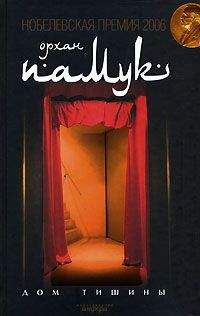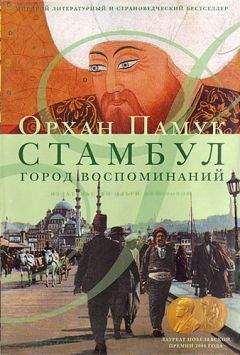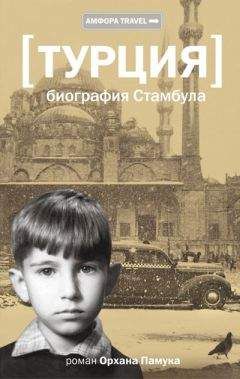Не видел, говорит. Бывает, мне ни с того ни с сего хочется с кем-нибудь поговорить. Я пошел, сел на свое место, стал ждать. Вскоре начался фильм.
Сначала они познакомились, девушка — певица, он ей не нравится, но однажды парень спасает ее от плохих и начинает ей нравиться, и она понимает, что любит его, но ее отец против этой свадьбы. Потом парень попадает в тюрьму. Начался небольшой перерыв, но я остался сидеть и не пошел на улицу вместе со всеми. Потом фильм продолжился: девушка вышла замуж за владельца казино, но у них не было детей, и они ничего не предпринимали. Когда ее муж стал ходить к одной дурной женщине, а Эдиз сбежал из тюрьмы, они встретились в доме у моста через Босфор, и Хюлья Коч-Йигит спела песню. Когда я слушал эту песню, мне стало немного грустно. Потом, когда он решил избавить ее от плохого мужа, тот уже сам заслужил себе кару, и стало ясно, что теперь они могут пожениться. Ее отец с радостью смотрит им вслед, и они идут по дороге рука об руку, идут и идут, и постепенно становятся все меньше, и появляется слово КОНЕЦ.
Зажегся свет, мы вышли на улицу, все шепотом говорят о фильме. Я бы тоже хотел поговорить с кем-нибудь. Десять минут двенадцатого, Госпожа, конечно же, ждет, но домой мне не хочется.
Я пошел к дороге, спускавшейся к пляжу. Может быть, дежурит аптекарь Кемаль-бей, может, он не спит. Я его побеспокою, мы поговорим, расскажу ему обо всем, он задумчиво выслушает меня, глядя на парней в свете витрины закусочной напротив, споривших, у кого машина лучше. Увидев, что в аптеке горит свет, я обрадовался: он не спит. Я открыл дверь, зазвонил колокольчик. О господи: это не Кемаль-бей, а его жена.
— Здравствуйте, — сказал я, помедлив. — Мне нужен аспирин.
— Упаковка или штучно? — спросила она.
— Две штуки. Голова болит. Мне немного не по себе… Кемаль-бей… — говорю я, но она не слушает: берет ножницы, отрезает аспирин, дает таблетки мне. Я протягиваю ей деньги и спрашиваю:
— Кемаль-бей утром был на рыбалке?
— Кемаль спит наверху.
Я взглянул на потолок. Он спит там, в полуметре от потолка. Проснись он, я бы все ему рассказал, может быть, он сказал бы что-нибудь о бессовестных парнях, а может, ничего бы не сказал, просто посмотрел бы задумчиво на улицу, а я бы говорил, мы бы разговаривали. Я взял сдачу, которую положила мне своей маленькой белой ручкой его жена. Затем сразу углубилась в журнал, лежавший на прилавке, — наверное, комикс. Красивая женщина! Я пожелал спокойной ночи, вышел, не мешая ей читать, — прозвенел колокольчик. Улицы опустели, дети, игравшие в прятки, разошлись по домам. Что делать, придется вернуться домой.
Притворив калитку, я увидел через ставни свет в комнате Госпожи: она не спит, пока я не лягу. Я вошел через кухонную дверь, запер ее на замок, побродил немного по кухне, и, когда стал медленно подниматься по лестнице, мне вдруг пришло в голову: интересно, а в том доме в Юскюдаре были лестницы? В какой же это было газете? Завтра пойду в бакалею и куплю этот номер, спрошу бакалейщика: «У тебя есть „Терджуман”[6]», наш Фарук-бей попросил, он историк, ему стало интересно, что там в исторической рубрике…» Я поднялся наверх, вошел к ней в комнату. Она лежала в постели.
— Я пришел, Госпожа, — сказал я.
— Молодец, — ответил она. — В конце концов ты зашел и домой.
— Что делать, фильм поздно кончился.
— Ты хорошо запер двери?
— Хорошо, — ответил я, — Вам что-нибудь нужно? Я ложусь. А то потом меня разбудите.
— Они приезжают завтра, да?
— Да. Я постелил им постели и приготовил комнаты.
— Хорошо, — проговорила она. — Закрой мне дверь хорошенько.
Я вышел и закрыл дверь. Сразу лягу и усну. Я стал спускаться по лестнице.
Я слышу, как он спускается по лестнице — ступенька за ступенькой. Что он делает на улице до поздней ночи? Не думай об этом, Фатьма, иначе в голову полезут всякие гадости. Но все-таки любопытно. Интересно, хорошо ли запер двери коварный карлик? Ему же все равно! Сразу ляжет в кровать и проспит всю ночь, похрапывая, как истинный сын своей служанки-матери. Спи, карлик, спи беззаботным, беспечным сном слуги, спи, а ночь пусть достанется мне. Я не могу уснуть. Я думаю, что засну и забуду, но лишь жду сон, и, пока жду, понимаю, что жду напрасно. Но жду.
Селяхаттин сказал бы, эта твоя бессонница — химическая проблема, сон — такое же явление, как и все остальные, и его можно познать, Фатьма, формулу сна однажды непременно откроют, как когда-то открыли формулу воды — Н2О. Естественно, откроют ее не наши увальни, а опять, как это ни печально, европейцы, и тогда никто не будет понапрасну ждать до утра, надев смешную пижаму и забравшись между этими бесполезными простынями и твоими смешными глупыми одеялами в цветочек, чтобы прошла усталость. Тогда нам будет достаточно накапать в стакан воды три капли из маленькой бутылочки и выпить, чтобы стать совершенно свежими и полными жизни, словно мы только что проснулись. Ты можешь представить, Фатьма, что мы сможем сделать тогда за то время без сна, что достанется нам, ты можешь представить себе эти часы без сна?
Мне не нужно думать об этом, Селяхаттин, я знаю: я буду смотреть в потолок, буду смотреть на него и ждать, пока какая-нибудь мысль не захватит и не унесет меня отсюда, но сон так и не придет. Если бы я могла пить вино и ракы, я бы, может быть, спала, как ты, но мне не нужен такой ужасный сон. Ты выпивал по две бутылки: я, Фатьма, пью, не ради удовольствия, а чтобы прояснилось в голове и прошла усталость от работы над энциклопедией. А потом ты спал с открытым ртом и храпел, а я убегала, потому что мне был противен запах ракы, которым несло у тебя изо рта, напоминавшего мне темный колодец, где лягушки совокупляются с пауками. Холодная, несчастная женщина, ты же бездушная, как камень! Выпила бы ты хоть рюмочку, может, поняла бы! Ну, Фатьма, давай, выпей, пожалуйста, пей — я приказываю, ты что, не знаешь, что нужно слушаться своего мужа?! Вот, знаешь! Тебя так учили. Так что пей, я тебе приказываю. Пей, а грех я беру на себя, давай, Фатьма, пей, пусть твой разум станет свободным; ну-ка пей — твой муж тебя просит, давай, не бойся; о господи, эта женщина заставляет меня ее упрашивать, мне надоело это одиночество, да что тут такого, Фатьма, выпей рюмочку, или ты не слушаешься своего мужа?
Нет, не поддамся я лживой змее! Никогда я не пила. Только раз. Из любопытства. Когда никого не было. Помню соль кончике языка, лимон и этот ядовитый вкус. Потом я испугалась и пожалела, что попробовала; сразу же прополоскала рот, все вылила и несколько раз вымыла стакан и с любопытством стала ждать, что у меня закружится голова, села, чтобы не упасть; было страшно — господи, неужто я стану пьяницей, как он, но ничего не случилось. Я поняла это и успокоилась — шайтан до меня не доберется.
Я смотрю на потолок. Мне больше не уснуть, лучше встану. Пошла, ловко открыла ставни, ведь комары меня не беспокоят. Я легонько оттолкнула створки окна. Ветер успокоился. Тихая ночь. Смоковница замерла. У Реджепа. Но завтра они приедут, а я опять буду думать. Здравствуй, здравствуй, Бабулечка, как твои дела, как ты, поцелуют мне руку, долгих лет тебе. Бабушка, как вы, как вы, Бабушка? Я буду рассматривать их. Не говорите все сразу, хором, ну-ка, ты, иди сюда, подойди ко мне. Расскажи, чем ты занимаешься? Я знаю, что спрошу, чтобы быть обманутой, и выслушаю несколько пустых слов, чтобы услышать ложь! Это и всё?! Вы не поговорите со своей Бабушкой? Они переглянутся, о чем-то поговорят между собой, похихикают, а я все услышу и все пойму. В конце концов они станут кричать. Не кричи, не кричи, уши мои еще слышат, хвала Аллаху! Простите, Бабушка, другая наша бабушка тоже плохо слышит! Я — не она! Я мать вашего отца, а не матери. Извините, извините! Хорошо-хорошо, давайте, рассказывайте! Расскажите что-нибудь! Что именно? Ну, хотя бы об этой вашей второй бабушке, о ней расскажите, что она делает? Внезапно они растерянно замолчат: действительно, что делает другая наша бабушка? И тогда я пойму, что они не научились видеть и понимать, ну и ладно, но я все-таки буду спрашивать их, хоть и не для того, чтобы им поверить, и когда я все же решу спросить, увижу: они уже, конечно, давно обо всем и думать забыли. Они заняты не мной, не комнатой, не тем, что я спрашиваю, а своими собственными мыслями, а я опять одна…
Я потянулась и взяла с тарелки абрикос, ела и ждала. Нет, не помогло. Я снова здесь, среди вещей, и не о чем не думаю. Смотрю на стол. Без пяти двенадцать. Рядом с часами бутылка одеколона, газета, а около нее — носовой платок. Так они и лежат. Я буду смотреть на них, взгляд мой будет бродить по ним, буду рассматривать их — в надежде, что они мне что-нибудь скажут, но они так о многом напоминали мне, что теперь им уже нечего сказать. Это просто бутылка одеколона, газета, платок, ключ и часы. Часы тикают, и никто, даже Селяхаттин, не знает, что такое время. Тут появилась другая мысль, а за ней еще одна, маленькая и беспокойная, — смотри не думай слишком долго ни об одной из этих минут, прыгай, выходи отсюда, давай выйдем вместе, из времени и из комнаты. Я съела еще один абрикос, но выйти не смогла. В таком случае я обычно еще дольше смотрю на предметы, мне хочется, чтобы привычная мысль напугала и отвлекла меня: если бы меня не было и никого не было, то вещи стояли бы на своих местах бесконечно долго, и тогда никто не смог бы даже подумать, что он не знает, что такое жизнь, никто!