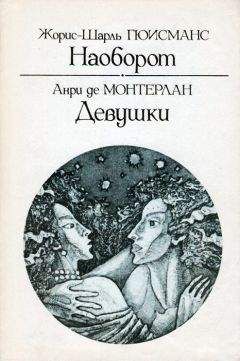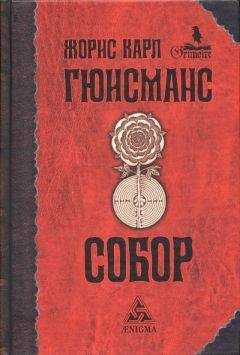Как и всех людей, обеспокоенных неврозом, его угнетала жара; холод кое-как приостанавливал анемию; теперь она возобновилась, ослабляя тело, и без того изнуренное обильным потовыделением.
В сорочке, прилипшей к мокрой спине, с влажной промежностью, с мокрыми ногами и руками, взмокшим лбом, с которого по вискам стекали соленые капли, дез Эссэнт в изнеможении лежал в кресле; в эту минуту один вид мяса на столе перевернул все внутри; велев его унести, заказал яйца всмятку, попытался проглотить тоненькие ломтики хлеба — встали поперек горла; тошнота подкатывала к горлу; он выпил немного вина; огненные острия пронзили желудок. Вытер лицо; еще секунду назад теплый — пот струился теперь по вискам холодом; надеясь обмануть тошноту, пососал несколько кусочков льда. Тщетно.
Безграничная слабость склонила его на стол: не хватало воздуха; он встал, но ломтики хлеба, казалось, разбухли и медленно поднимались внутри. Подобного беспокойства, разбитости, тошноты он не испытывал еще никогда; вдобавок ко всему помутилось в глазах, вещи раздваивались; вскоре исчезла дистанция: стакан, казалось, находился чуть ли не в лье от него; он уверял себя, что попал во власть сенсорных галлюцинаций, поэтому и не способен правильно реагировать; лег в салоне на канапе, но тут же стала одурять килевая качка плывущего корабля; тошнота усилилась; он снова встал, решив прибегнуть к помощи пищеварительного лекарства.
Он вернулся в столовую и с грустью подумал, что похож в этой каюте на пассажира, страдающего морской болезнью; пошатываясь, направился к шкафу, поглазел на свой "орган для рта", не открыл его, лишь снял с верхней полки бутылку бенедиктина, хранил ее из-за оригинальной формы: она внушала нежно-сладострастные и одновременно расплывчато-мистические мысли.
Но сейчас ему было все равно; безжизненным взором он смотрел на эту приземистую, мрачно-зеленую бутылку; в иные мгновения ее старое монашески-пузатое брюхо, пергаментный капюшон, нахлобученный на верхушку и горлышко, красная восковая печать с тремя серебряными митрами на лазоревом поле вызвали картину средневековых приорств; горлышко было запечатано, как булла, свинцовыми скобками; на этикетке, пожелтевшей и словно потушенной временем, мерцала звучная латинская надпись: Licuor Monachorum Benedictinorum Abbatiae Fiscanensis.
Под этим совершенно аббатским одеянием с крестом и экклезиастическими инициалами Р.О.М., стиснутый пергаментом и лигатурами, как настоящая хартия, дремал ликер шафранного цвета, восхитительной тонкости. Он источал квинтэссенцию аромата дягиля и синего зверобоя, смешанного с морскими, насыщенными йодом травами и бромом, который смягчался сахаром; он разжигал нёбо жаром спирта, замаскированным девственной наивной слабостью, щекотал ноздри развратной иголочкой, завернутой в детскую и одновременно набожную ласку.
Это лицемерие, возникающее от необычайного разногласия между формой и содержимым, между литургическим силуэтом флакона и его абсолютно женской, абсолютно современной душой, в былые времена вызывало грезы; перед этой бутылкой он еще подолгу думал о самих монахах, продавших ее, о бенедиктинцах аббатства Фекан: принадлежа к конгрегации Сэн-Мор, прославленной в исторических трудах, они соблюдали устав св. Бенуа, но совершенно пренебрегали уставом черных монахов аббатства Клюни. Бесспорно, они к нему принадлежали, как и в средние века, выращивая лекарственные травы, разжигая реторты, собирая в перегонных кубах превосходные лекарства, завещанные неоспоримыми магистрами.
Он выпил капельку ликера, на несколько минут почувствовал облегчение, но вскоре огонь, разожженный внутри винной слезинкой, оживился. Он отбросил салфетку, вернулся в кабинет, походил взад-вперед; ему показалось, что он находится под пневматическим колпаком, где постепенно образуется пустота; слабость, полная жестокой неги, струилась из мозга, растекаясь по всем членам. Он вышел в сад, собрался с силами и, возможно, впервые с момента переезда в Фонтенэ, приютился под деревом, откуда спадал кругляшок тени. Сидя в траве, он тупо смотрел, но заметил их лишь через час: зеленоватый туман расплывался перед глазами, позволяя, как сквозь толщу воды, видеть нечто такое, что постоянно меняло и очертания, и цвет.
В конце концов он обрел равновесие; теперь четко различал лук и капусту; дальше — грядку латука-салата, а в глубине, вдоль всей изгороди, — белые лилии, застывшие в тяжелом воздухе.
Улыбка скривила его губы: он вдруг вспомнил странное сравнение старика Никандра, уподоблявшего форму пестика лилии половому органу осла; кроме того, вспомнил пассаж Альбера Великого: когда этот чародей рекомендует с помощью латука-салата устанавливать, непорочна ли еще девушка.{39}
Воспоминания чуть-чуть развеселили; он осмотрел сад, заинтересовался растениями, иссушенными жарой и пересохшей землей, которая словно дымилась в воспаленной воздушной пыльце; потом, за изгородью, отделяющей низ сада от дороги, которая поднималась в форт, заметил двух мальчишек: те возились прямо на солнце.
Он сосредоточил на них внимание, когда вдруг показался третий, поменьше, омерзительный на вид: волосы были, как водоросли, наполненные песком; две зеленых сопли под носом, отвратительные губы; их окружала белая грязь творога, раздавленного на хлебе и усыпанного зелеными штрихами лука-резанца.
Дез Эссэнт втянул воздух. Им завладел извращенный позыв, какой бывает у беременных. От этого скверного бутерброда слюнки потекли. Ему показалось, что желудок, отказывающийся от всякой пищи, переварит ужасное блюдо, а нёбо насладится им, как регалом органа.
Он вскочил, бросился на кухню, приказал найти в деревне булку, творог, лук-резанец и приготовить ему точно такую же тартинку, какую пожирал мальчик; после чего вернулся под свое дерево.
Теперь оборванцы дрались. Они выхватывали друг у друга остатки хлеба, запихивали за обе щеки, обсасывали пальцы. Сыпались удары ногами и кулаками; тот, кто оказался самым слабым, валялся на земле, выл и плакал.
Зрелище оживило дез Эссэнта: битва отвлекла мысли о его собственном недуге; ярость гадких мальчишек навела на раздумья о жестоком и мерзком законе борьбы за существование; и хотя эти дети были подлыми, он не мог не заинтересоваться их судьбой и не подумать, что лучше бы для них было, если бы мать вовсе не ощенилась.
В самом деле, в раннем детстве — сыпь, колики, лихорадка, корь, пощечины; пинки и озверяющая работа — к тринадцати годам; женские плутни, болезни и рогоношества — в зрелом возрасте; к старости — дряхлость и агония в доме призрения нищих или в богадельне.
Будущее было, в общем, одинаково для всех, и ни тем, ни другим, если бы они обладали хоть каплей здравого смысла, не на что было надеяться. Для богачей, хотя и в другой среде, те же страсти, те же беспокойства, те же волнения, да и те же посредственные наслаждения, будь то алкогольные или чувственные. В этом заключалась даже слабая компенсация за все зло, нечто вроде правосудия, восстанавливавшего равновесие несчастья между классами, охотнее избавляя бедняков от физических несчастий, которые более безжалостно терзали дебильные и исхудавшие тела богачей.
"Какое безумие — деторождение!" — думал дез Эссэнт. А что сказать о священниках, давших обет бесплодия; они довели непоследовательность до канонизации святого Венсана де Поля, потому что тот сохранял невинных для бесполезных мучений!
Благодаря омерзительным предосторожностям, он отодвинул на целые годы смерть неразумных и бесчувственных существ таким образом, что, становясь позднее почти понятливыми и, во всяком случае, восприимчивыми к боли, они могли предвидеть будущее, ожидать и страшиться смерти (до тех пор о ней не знали ничего, даже названия). Многие даже призывали ее из ненависти к обреченности на существование, навязанное им в силу абсурдного теологического кодекса!
И с тех пор, как скончался этот старик, его идеи восторжествовали; брошенных детей подбирали, вместо того, чтобы позволить им преспокойно, не замечая этого, погибать; однако дарованная им жизнь становилась изо дня в день суровей! Под предлогом свободы и прогресса общество еще и открыло средство ухудшить жалкое существование человека, вырывая его из своей среды, закутывая в смешной наряд, раздавая особое оружие, доводя в рабстве до животного состояния, похожего на то, от которого некогда освободили из милосердия негров, и все это для того, чтобы принудить его убивать своего ближнего, не боясь эшафота, как обычные преступники, действующие в одиночку менее шумным и менее быстрым оружием.
Что за странная эпоха, думал дез Эссэнт: ратуя за интересы человечества, пытается усовершенствовать анестезирующие средства, чтобы устранить физическое страдание, и в то же время готовит подобные возбудители, чтобы усилить моральную боль!