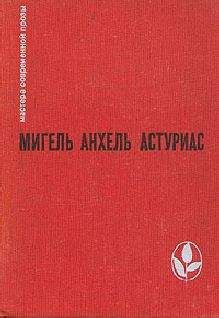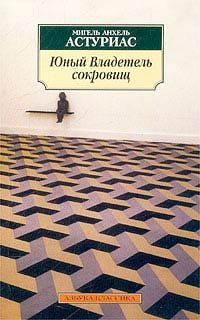Желтыми, как мед, очами она глядела на руку письмоноши, обернутую алым шелком, — влюбленному Ничо казалось, что он как бы сидит рядом со сладостной Исаброй Террон, чьи плечи покрыты той же шалью, и обнимает ее. Наконец он заговорил, обращаясь к хозяйке — частице внешнего, чужого мира:
— Я вас больше не угощаю, потому что у вас дел много. А хотите — вот бутылка, пейте без приглашений.
— Схожу суп посолю и выпью с вами. А вы мне нравитесь. Мы с вами раньше не говорили, я вас видела из окна, знала, кто вы, и как-то — помните? — на ярмарке поздоровались.
— Что-что, а знают меня все. Другие даже просят, когда я в город пойду, чтобы со мной письма отправить, особенно денежные.
— Вот поэтому я и хочу дать вам совет. Вы столько не пейте! Если вас пьяным увидят) вам не будут доверять, а то еще арестуют и поколотят в тюрьме. Такому, как вы, очень опасно напиться. Вы представляете, что это такое, когда тебе не доверяют? Иностранцы эти писем не дадут туда… ну, туда, где их семьи, за море. И бедные не дадут, которые копят деньги на марку, и больные — они родным пишут и ждут, что те к ним приедут и вылечат… И матери, которые хотят поведать детям свои радости, беды и надежды… и мужья, и женьт, и.женихи, и невесты…
— Хе-хе-хе, — захихикал сеньор Ничо, словно гремучая змея зашевелилась в воде, — в письмах этих одни враки…
— Враки ли, правда ли, добро или зло, а из нашего захолустья с вами все идет, как тень.
Сеньор Ничо потер ногу об ногу — шутка ли, какая у этих ног ответственность! — и навалился на стойку, глядя в пространство и глупо улыбаясь. Шали он не выпускал, и в другом мире, в душе, беседовал с Исаброй, с женой, которая от него ушла ногами, ногами, ногами…
«Повсюду пойду за тобой, — говорил он в душе, — где бы ты ни была, я найду тебя. Меня не Ничо зовут, Дионисио меня зовут, пока тебя не встречу. Когда я на тебе женился, любовь прошла, а сейчас она вернулась и жжет меня, губит, терзает… Без тебя я снова дурак дураком, опять я одинокий, а мужчине одному нельзя — его женщина человеком делает».
Хозяйка, не в силах оторвать взора от кроваво-красных переливов шали, заигравших под косыми лучами солнца, падавшими из окна, пробурчала:
— Ну и глуп, совсем спекся! Ах, бросила бы я этот кабак, а то мыслимо ли слушать, надерутся — и такую чушь несут… — и сказала поласковей и погромче, уже для него: — Не к лицу вам так напиваться, дон…
— А вам какое дело…
— Да я просто хочу помочь, чтобы не вышло чего…
— Надо мной хозяев нету…
— А я и не хозяйствую…
— Были у меня отец и мать, да оба в землю легли. Дайте-ка еще бутылочку, а глотку свою заткните.
— Ты тут не хами, не то начальство позову, живо засадят! Видно, не зря от тебя, от нахала, жена ушла…
Ничо Акино не слышал последних слов. Ему захотелось прислониться к стене, он увидел ее и прислонился. Хозяйка подошла к окошку, глянуть, нет ли кого на улице. Там не было ни души. Разве что пес, да еще спал на крыльце какой-то хромой. Хозяйка закрыла дверь на засов и на крючок, хорошенько занавесила окно и в полумраке принялась осторожно стаскивать шаль с руки пьяного письмоноши. Она разгибала руку так нежно, словно ласкала, и та подавалась понемногу… Ничо забеспокоился во сне, зашевелился… Она отошла, потом принялась за дело снова, еще ловчей и подойдя с другой стороны. Ничо задергался, высвобождаясь, и заворчал:
— Не лезьте… чтоб вас всех… очертели… не дам… моя вещь… ах ты, пристали!… по-хорошему бы, а так — не дам, лучше умру!…
Когда он говорил, Алеха Куэвас наклонялась к нему и шептала «ш-ш-ш», пока он не засыпал. Но и она притомилась. Оружие было под рукой, надо выиграть время. Она подошла к стойке, взяла воронку, засунутую в графин, л самый графин, наполненный прегнуснейшей водкой. Сеньор Ничо стиснул зубы, когда хозяйка, будто курицу потроша, сунула руку ему в рот. Воронка тыкалась в челюсть, из расцарапанных десен пошла кровь, и все же засунуть ее удалось. Как змею убиваю, подумала Алеха, делая свое дело. Пьяный задыхался, захлебывался водкой, но вынужден был пить не останавливаясь. Он пытался отбиваться одной рукой — в другой была шаль, — а хозяйка в свою очередь тщетно пыталась именно в эти минуты выдернуть шикарную вещь. Ничо предпочитал задохнуться, чем утратить то, что, по-видимому, так полюбил, и задыхался, хотя и пробовал, когда уж совсем худо было, выплюнуть воронку, мотая головой. Однако воронка от этого только зашла глубже, чуть ли не в гортань. Наконец он выпил весь графин, и хозяйка оставила его в покое. Теперь надо было дождаться, пока водка подействует и он совсем сомлеет. Алеха поправила волосы и платье, стряхнула с юбки несколько красных ниток от бахромы и, открыв дверь, с невинным видом уселась на пороге комнаты.
Заслышав у входа топот копыт и мужские голоса, она вышла к стойке. Это были погонщики. Они разгрузили товар у лавки дона Деферика и зашли выпить пива, чтобы снять усталость после долгого пути. Вот напасть так напасть! А куда денешься?
— Верно мы говорили, — сказал, входя, Иларио. — Ничо-то поднагрузился основательно. Ишь, валяется, как свинья. Хоть бы с музыкой, повеселился бы…
— У тебя, Порфирио, сил вроде побольше, — сказал другой погонщик, входя за ним следом. — Подними его! Он, бедняга, рот разбил, когда падал.
— Как не поднять, он мне друг, а не друг — так ближний. А легонький-то, прямо пушинка! Потому и носит почту быстрее всех.
— А я верю, что он койотом оборачивается, когда выходит из селенья. Вот письма у него и летят как по воздуху.
Так сказал Иларио, а Порфирио и другой погонщик наклонились, чтобы поднять сеньора Ничо.
— Ух ты! Да он заледенел, как мертвый. Троньте-ка, лицо совсем холодное.
Погонщики потрогали лоб сеньора Ничо пыльными загорелыми ладонями. Иларио потрепал его за уши и стал растирать ему руку; другую разжать он не смог, она мертвой хваткой вцепилась в сверкающий шелк шали.
— Что это у него там? — вмешалась хозяйка. Она была явно не в духе.
— Жене, бедняга, нес, — ответил Иларио, глядя на нее и пытаясь разгадать, чего она сердится.
Она хорошо знала, как трудно отвязаться от мужчин, когда они с дороги, а от него — тем более. Он не мог сказать другим: «Не пойдем к Алехе», просто не мог, потому что сам первый и хотел к ней пойти, и не ради пива, а ради нее самой.
— Мало что окоченел, — сказал Порфирио. — Хуже, что сердце у него вот-вот откажет, пульса почти нету. Надо бы сообщить. Сбегай-ка хоть того ради, что он тебе год назад весть хорошую принес.
— Брось, Порфирио! Я схожу в управу, только пива черного хлебну.
— Не дури! Успеешь выпить, вся жизнь впереди, хоть залейся. А он, бедняга, совсем замерзнет, он и так окоченел.
— Ладно. Оно и верно — чем опоздать, лучше доброго дела и не делать. Я ведь доброе дело делаю, мне никто не заплатит.
— Бедный сеньор Ничо, он даже окосел, — сказал другой погонщик, по имени Олегарио.
— Окосеешь тут. Как он хребет не сломал…
— Говори что хочешь, Порфирио, нам все одно, только посади его и придержи, а то он опять завалится. Вот уж верно сказано: пьяного бог бережет.
Тем временем хозяйка протирала и ставила стаканы и сердито жевала копаль. Выставив на стойку бутылки пива, она перестала жевать и произнесла как бы невзначай, но не без умысла:
— Бог? И бог, и все ангелы. Я и не видела, что он свалился, занята была, посуду чистила. Выхожу к прилавку — его нет. Думаю, ушел сеньор Ничо, оно и лучше, а то выпил он много. Две бутылки белого, да тут кто хочешь свалится.
— Ну, ребята, за него и выпьем, — громко сказал Иларио и поднял стакан с пивом, чтобы чокнуться с приятелями. Стаканы у них пенились, шляпы они сняли, тряпки перекинули через плечо.
Порфирио Мансилья, не забывая о своем подопечном, отхлебнул пива и проговорил сквозь покрытые пеной усы:
— Шаль и ту хотел съесть — вон какая рваная, вся в крови, вроде бы рвал и порвать не мог. Он думал ее отдать дону Деферику, а немец и не взял.
— Немец человек стоящий. Вот недавно начальника управы дети гуляли с обезьянкой, а она и прыгнула в пруд. Я выбежал, а тут немец идет. Остановился и выловил зверюгу.
— Ох, жаль, когда человеку худо! — говорил свое Порфирио.
— Да не худо ему, — сказал Олегарио, и все засмеялись, даже хозяйка.
— Истинно: лучше глух, чем глуп. Я говорю: болен он, а кто не понимает, пусть катится к черту…
— Ну ты, полегче! — взъярился Иларио.
— А вы меня не доводите. Тут и его держи, и от вас отбивайся!… Я что хотел сказать: жаль, когда человеку худо, и смотреть на себя тогда не надо, посмотришь — вовек не будешь пить. Вот почему в кабаках нельзя зеркало вешать. Зеркало как совесть — сам себя видишь. Иларио прервал его.
— Вот, красоточка, — сказал он Алехе, — у вас и нет зеркал, кроме собственных глазок.
— Ах, упаду!… — игриво засмеялась она. — Не вы первый мне это говорите!
— Все врут, а я правда так думаю.