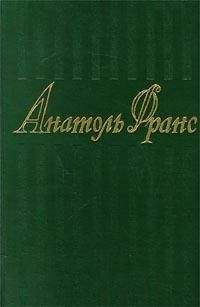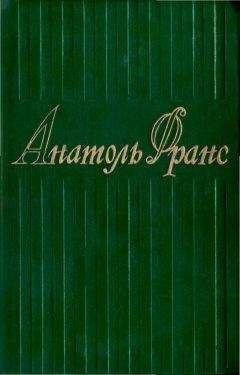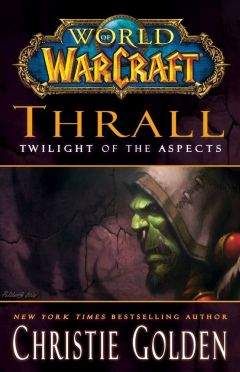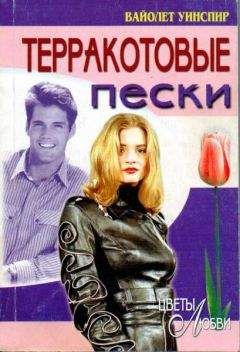Во второй половине дня Тереза поехала в монастырь св. Марка, где ее ждал Дешартр. Она и хотела и боялась опять свидеться с ним так скоро. Она испытывала тревогу, которую смиряло незнакомое ей бесконечно сладостное чувство. Она не ощущала более того оцепенения, которому поддалась в первый раз, покоряясь любви и внезапному сознанию непоправимости того, что случилось. Теперь она была под властью влияний не столь стремительных, более смутных и более могущественных. Воспоминание о ласках было овеяно чудесной задумчивостью, которая смягчала его жгучесть. Тереза полна была волнений и тревоги, но не чувствовала ни стыда, ни сожалений. Действовала она не по своей воле, а повинуясь силе более высокой. Оправдание она находила в своем бескорыстии. Она ни на что не рассчитывала, так как ничего не предусмотрела заранее. Конечно, она не должна была отдаваться ему, не будучи свободной, но ведь она ничего и не требовала. Быть может, для него это только искренняя и страстная прихоть. Она ведь не знает его. Она еще не сталкивалась со столь прекрасным даром воображения, пылкого и зыбкого, которое и в хорошем и в дурном так далеко оставляет за собой все посредственное. Если бы он вдруг покинул ее и исчез, она не стала бы его винить, не стала бы сердиться на него; так по крайней мере ей казалось. Она сохранила бы воспоминания о нем, — след самого редкостного, самого драгоценного, что только бывает в мире. Он, быть может, и неспособен к истинной привязанности. Ему только показалось, что он любит ее. И какой-нибудь час он ее действительно любил. Желать большего она и не смела, смущенная ложным положением, которое претило ее прямоте, ее гордости и нарушало ясность ее мыслей. Пока наемный экипаж увозил ее к монастырю св. Марка, ей удалось внушить себе, что он ничего не скажет ей о том, чем она была для него накануне, а самое воспоминание о комнате, где они любили друг друга и откуда видны были подымающиеся к небу черные веретена сосен, останется для них обоих лишь отблеском сна.
Он подал ей руку, помог выйти из экипажа. Прежде чем он успел заговорить, она по его взгляду поняла, что он ее любит и снова желает ее, и в то же время поняла, что хотела встретить его таким.
— Вы, — сказал он, — вы… ты!.. Я здесь с двенадцати часов, я ждал; хоть я и знал, что вы еще не можете приехать, но дышать я мог только в том месте, где должен был увидеть вас. Наконец-то! Скажите что-нибудь, чтобы я и видел и слышал вас.
— Так вы еще любите меня?
— Теперь-то я тебя и люблю. Мне казалось, что я вас любил, когда вы были всего только тенью, воспламенявшей мои желанья. Теперь ты — плоть, и в эту плоть я вложил свою душу. Скажите, правда это, правда, что вы — моя? Что же я сделал, что мне даровано это величайшее, единственное на свете благо? А люди, которыми полон мир, еще воображают, будто они живут. Я один живу. Скажи, что я сделал, чтобы завоевать тебя?
— О! то, что надо было сделать, сделала я сама. Говорю вам это прямо. Если дело зашло так далеко, то виновата только я. Видите ли, женщины не всегда признаются в этом, но это почти всегда их вина. Вот почему, что бы ни случилось, я не буду упрекать вас.
Бойкая и крикливая толпа нищих и проводников, предлагающих свои услуги, спустившись с паперти, окружила их с назойливостью, в которой, правда, была и доля грации, никогда не покидающей итальянцев. Их проницательность помогла им угадать влюбленных, а они знали, что влюбленные всегда щедры. Дешартр бросил им несколько монет, и все они вернулись к своей блаженной праздности.
Посетителей встретил муниципальный сторож. Г-жа Мартен жалела, что тут не оказалось монаха. Белое одеяние доминиканцев в Санта-Мария-Новелла так красиво под сводами монастыря!
Они осмотрели кельи, где Фра Анжелико, которому помогал его брат Бенедетто, писал на беленых стенах для своих товарищей-монахов дышащие невинностью картины.
— Помните тот зимний вечер, когда я встретил вас на мостике, переброшенном через ров перед музеем Гиме, и проводил вас до той улочки с палисадниками, что ведет к набережной Бильи? Перед тем, как проститься, мы на минуту остановились около парапета, вдоль которого живой изгородью тянутся тощие кустики самшита. Вы взглянули на эти кустики, высушенные морозом. И когда вы ушли, я долго смотрел на них.
Теперь они стояли в келье, где жил Саванарола, настоятель монастыря св. Марка. Чичероне показал им портрет и реликвии мученика.
— Что хорошего вы нашли во мне в тот день? Ведь было темно.
— Я видел, как вы идете. Формы тела сказываются в движениях. Каждый ваш шаг открывал мне тайны вашей красоты, пленительной и непогрешимой. Мое воображение никогда не отличалось сдержанностью, если я думал о вас. Я не решался заговорить с вами. В вашем присутствии мне делалось страшно. Я пугался той, которая могла дать мне всё. Когда я был с вами, я с трепетом на вас молился. Вдали от вас я весь отдавался кощунственным желаниям.
— А я и не подозревала. Помните, как мы виделись с вами в первый раз, когда Поль Ванс мне вас представил? Вы сидели около ширмы. Вы рассматривали развешанные на ней миниатюры. Вы сказали мне: «Эта дама, писанная Сикарди, похожа на мать Андре Шенье»[103]. Я ответила: «Это бабушка моего мужа. А какова собой была мать Андре Шенье?» И вы сказали: «Сохранился ее портрет: опустившаяся левантинка».
Он отрицал, что выразился так резко.
— Да нет же. Я помню лучше вас.
Они шли среди белого безмолвия монастыря. Они посетили келью, которую блаженный Анжелико украсил нежнейшей живописью. И тут, перед ликом мадонны, которая на фоне блеклого неба принимает от бога-отца венец бессмертия, он обнял Терезу и поцеловал ее в губы, почти что на глазах у двух англичанок, проходивших по коридору и все время заглядывавших в Бедекера[104]. Она заметила:
— Мы чуть не забыли келью святого Антонина[105].
— Тереза, в моем счастье меня мучит все, что относится к вам, но ускользает от меня. Меня мучит, что вы жили не мною одним и не ради меня одного. Мне хотелось бы, чтобы вы всецело были моей, чтобы вы были моей и в прошлом.
Она слегка пожала плечами:
— О, прошлое!
— Прошлое — это для человека единственная реальность. Все, что есть, — уже прошло.
Она подняла к нему прелестные глаза, напоминавшие небо, каким оно бывает, когда сквозь дождь светит солнце:
— Ну, так я могу вам сказать: лишь с тех пор, как я вместе с вами, я чувствую, что живу.
Вернувшись во Фьезоле, она нашла письмо от Ле Мениля, короткое и угрожающее. Ему совершенно непонятно ее отсутствие, которое так затягивается, непонятно ее молчание. Если она тотчас же не даст ему знать, что возвращается, он сам приедет за ней.
Она прочитала и ничуть не удивилась, но была подавлена, видя, что сбывается все, что должно было сбыться, что ее не минует то, чего она опасалась. Она могла бы еще успокоить его, уговорить. Ей стоило только сказать, что она любит его, что скоро вернется в Париж, что он должен отказаться от безумной мысли — ехать за ней сюда, что Флоренция — большая деревня, где их сразу все увидят. Но надо было написать: «Я люблю тебя». Надо было убаюкать его ласковыми словами. У нее недоставало решимости. Она намекнула ему на правду. В туманных выражениях обвиняла самое себя. Писала что-то неясное о душах, унесенных потоком жизни, о том, как мало значишь среди бурного моря людских дел. С грустью и нежностью просила она его сохранить где-нибудь в уголке души доброе воспоминание о ней.
Она сама отнесла письмо на почту на площадь Фьезоле. Дети играли в классы среди надвигавшихся сумерек. С вершины холма она окинула взглядом несравненную чашу, на дне которой лежит, как драгоценность, прекрасная Флоренция. Тереза вздрогнула, ощутив мир и безмятежность этого вечера. Она опустила письмо в ящик. И только тогда она с полной ясностью поняла, что она сделала и какие это будет иметь последствия.
На Пьяцца делла Синьория, где лучезарное весеннее солнце рассыпало желтые розы, толпа торговцев зерном и макаронами, собравшихся на рынок, начала расходиться, едва только пробило двенадцать. У подножья Ланци, перед скопищем статуй, продавцы мороженого воздвигали на своих столиках, обтянутых красной материей, маленькие замки, внизу которых была надпись: «Bibite ghiacciate»[106]. И бездумная радость спускалась с небес на землю. Возвращаясь с утренней прогулки в садах Боболи, Тереза и Жак проходили мимо знаменитой лоджии; Тереза глядела на «Сабинянку» Джованни Болонья[107] с тем напряженным любопытством, с каким женщина рассматривает другую женщину. Но Дешартр глядел только на Терезу. Он сказал ей:
— Удивительно, как к вашей красоте идет яркий солнечный свет, как он любит и ласкает ваши щеки, их нежный перламутр.
— Да, — сказала она. — При свечах черты лица у меня становятся жестче. Я это замечала. Вечера, к несчастью, не для меня, а ведь именно вечерами женщинам чаще всего представляется случай показаться в обществе и понравиться. У княгини Сенявиной вечером бывает красивый матово-золотистый цвет кожи, а при солнечном свете она желта, как лимон. Надо признать, что это ее нисколько не тревожит. Она не кокетлива.