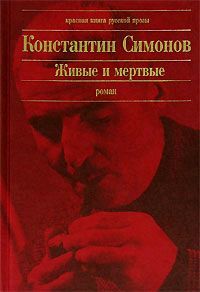– Дак корову-то почем за килограмму-то сдали?
– По два рубля приняли корову-то, а уж говорила: может, не надо бы нарушать, может, и прокормили бы как-нибудь, – ну, думаю, ладно, может, телушечку к зиме купим, вон у Мишки больно добра телушка-то, на государство ладят сдавать.
Тем временем вскипел поставленный между разговорами самовар, Евстолья выставила чайные приборы, а Степановна вынула два пирога. Старухи попили чаю, немного поуспокоились, ребятишки уснули в зыбке, и очеп скрипел, Степановна качала люльку.
– Вон топор-от бы насадил мне, уж до чего дожили, что чурку исколоть нечем стало.
– Как не насадит, насадит. – Евстолья мыла чашки. – Приди уж, Степановна, в сорочины-ти, приди, шестая нидилькя ведь пошла, шестая... Нюшка-то все на дворе али как?
– На дворе, Евстольюшка, все на дворе. – Степановна перешла на шепот: – Иди-ко, чего скажу-то, девушка, насчет Нюшки-то...
Евстолья подставила к Степановне обрамленное сединой ухо, и Степановна шепнула ей что-то.
– Ой, не знаю, матушка. – Евстолья закачала головой. – Не знаю. Кабы... Уж что... не вернешь теперече Катерину-то, а и я какая жилица на белом свете? С самим уж говори...
Степановна опять пошептала, Евстолья тоже шепотом, хотя в избе никого не было, проговорила в ответ:
– На что бы лучше, на что бы... Нюшка... Робята малы еще... А и мне бы умереть спокойно... Ой, матушка...
Евстолья все вздыхала, а Степановна нашептывала ей какие-то слова, и очеп скрипел в осиротевшей избе Ивана Африкановича.
– Да сам-то он где? – вдруг громко спросила Степановна.
Но Ивана Африкановича близко не оказалось. Он еще с утра ушел на ферму копать новый колодец.
Уж так повелось, что всю его судьбу решали всегда без него, и через день вся деревня говорила, что дело это верное и что никого нет лучше Нюшки заменить Катерининым ребятишкам родную мать, да и коровам прежнюю обряжуху...
Только Иван Африканович ничего не знал об этом и ходил обросший, страшный и все молчал да курил горький сельповский табак.
Он не спал этими долгими осенними ночами. Редко-редко забывался на полчаса. Смыкались жесткие, словно жестяные, веки, и тогда горе отходило, растворялось в темноте. Но с пробуждением оно было еще острее, еще свежей и явственней. Иван Африканович переживал тогда все сначала...
Однажды он очнулся под утро, мигом все вспомнил и скрипнул зубами, уткнулся в подушку. Прислушался – тишина. Только посапывают ребята да, равнодушные, постукивают на стене часы. И вдруг он услышал тещин глухой голос, она молилась в темноте. Никогда она раньше не молилась, не слыхал, не видел Иван Африканович, изредка лишь перекрестится, а тут молилась. Речитативом, вполголоса Евстолья выводила незнакомые слова:
– «Возоплю в скорби моей к Господу Богу моему, и услышит меня. Из чрева адова вопль мой, услышит голос мой. Ввергнет меня в глубины сердца морского, и все реки обнимут меня. Все высоты Твои и волны Твои на меня падут...»
Ивану Африкановичу стало еще горше от никогда не слышанных этих слов. Тикали на стене часы, посапывали ребятишки, а Евстолья глуховато, спокойно продолжала молиться:
– «Возольется вода до души моей, бездна обымет меня последняя... Остынет глава моя в расселинах гор, сойду в землю, под вечные вереи и заклёпы, и да уйдет от тления жизнь моя к Тебе, Господи, Боже мой...»
Старуха затихла.
«Худая стала Евстолья, – подумал Иван Африканович, – вон и молиться начала. Никогда не молилась. А ежели и она умрет, что тогда? Совсем будет каюк, совсем крышка».
Он незаметно встал, надел сапоги. Не умывшись, не сказав ничего, взял топор и сумку еще со вчерашней горбушкой. Вышел на улицу.
Ночью, во время краткого забытья, ему уже много раз приходила почему-то на память старая его лодка, что лежала у озера. Все время думал о лодке. Он давно уже хотел сделать новую лодку.
И вот сегодня, чтобы хоть немного забыться, Иван Африканович решил сходить в лес, к запримеченной еще в прошлом году осине для новой лодки.
Он шел колесной дорогой, проложенной им самим же через кошенину и старые клеверища, и все время думал про осину. Ежели здоровье будет, к санной дороге можно срубить, обтесать нос и корму, насверлить дырки для сторожков[3] и вытесать ей нутро. А с первым заморозком, когда установится дорога, вывезти лодку из лесу в деревню. Полежала бы до весны в сарае, подзадубела, чтобы весной развести и доделать, поспеть к водополью и щучьему нересту.
Деревня осталась километрах в трех позади. Он, не оглядываясь, вошел в лесную поскотину, перешел раздобревший было от снега и теперь опять успокоившийся ручеек. Увидел примерно двухнедельный медвежий след на глинистом взлобке, и вспомнилась прошлогодняя медведица, что ободрала Рогулино плечо. «Она, наверно, косолапая, – подумал Иван Африканович. – Знамо, она, вон и муравейник распотрошила. Может, и сейчас где-нибудь близко. Дело привычное».
Поскотина была широка, безмолвна, только ветер иной раз дул по сосновым верхам, и сосны отзывались возмущенно и сонно. Опять выглянуло ненадолго спокойное, усталое к осени солнышко, но тучи сразу же сомкнулись.
Ивану Африкановичу было тепло, он шел по лесу, как по деревенской улице. За жизнь каждое дерево вызнато-перевызнато, каждый пень обкурен, обтоптана любая подсека. Вон маленькое, не больше пятачка, болотце: еще в детстве около него проколол сучком босую ногу; вон вилашки корявой сосенки: отдыхал под ней сколько раз; вон брусничный бугор: ставил силки и прыгуны на тетер; тут в прошлом году вырубал вязы для дровней, там заготавливал драночные баланы, здесь тесал хвою для коровьей подстилки. Везде свое государство, куда ни ступишь...
На старой куровской подсеке Иван Африканович увидел давнишнюю кошенину. Срезанная трава лежала под ногами, выцветшая от многих дождей, промытая почти добела. «Вот, – подумал Иван Африканович, – кто-то покосил да так и оставил неуправленным».
Обходя ивовый куст, он вдруг увидел висевший на ветке бумажный женский платок. Остановился, взял платок, сел на жердину. Запах Катерининых волос не могли выдуть лесные ветры, а соль, завязанная в кончике, так и не растаяла от дождей... Иван Африканович зажал платком обросшее, похудевшее лицо, вдыхал запах Катерининых волос, такой знакомый, давно не слышанный, горький, родимый запах. Глотал слезы перехваченным горлом, и ему думалось: вот сейчас выйдет из-за кустов Катерина, сядет рядом на березовой жерди...
Сидел, ждал. И хотя знал, что никто не выйдет, никто не окликнет, все равно ждал, и было сладко, больно, тревожно ждать. И никто не вышел. Шумел вокруг дремотный лесной гул, белела на пустовине сенокосная лога[4].
Ветрено, так ветрено на опустелой земле... Уже поредели, стали прозрачнее расцвеченные умирающей листвой леса, гулкие прогалины стали шире, затихло птичье многоголосье.
Надо идти. Идти надо, а куда бы, для чего теперь и идти? Кажись, и некуда больше идти, все пройдено, все прожито. И некуда ему без нее идти, да и непошто. Никого больше не будет, ничего не будет, потому что нет Катерины. Все осталось, ее одной нет, и ничего нет без нее...
Не думая ни о чем, Иван Африканович встал с жердины. Сунул платок в сумку, бесцельно ступил на тропу, побрел, снова равнодушный к себе и всему миру.
Из-под самых ног взлетела и даже не напугала его лесная тетерка. Запнулся за корень, чуть не упал и даже не выматюкался, как сделал бы раньше.
Из-за колдобины вспомнилось, как позавчера, когда приходила Степановна, прибежал домой Гришка, весь в слезах, с кровяной пяткой, наступил где-то на доску с гвоздем; вспомнил Гришку, вспомнил тихую, с удивленными глазами Марусю, и жалость к себе, пересиленная жалостью к ребятишкам, затихла, обсохла вместе с недавними слезами.
Надо идти.
Иван Африканович шел долго, тропа стала уже. Остановился, срезал острием топора гроздь изумрудной княжицы – гостинцем будет от лисоньки для Маруси. Потом сорвал шляпку ядреного боровичка, это для Гришки, для Кати взял с дерева янтарной живицы. Все клал в сумку – радостей дома не оберешься от этих лесных гостинцев.
Сквозь утихающую, рассасывающуюся боль он думал еще об осине, о будущей лодке. Может, сегодня и срубить осину да обкорнать сучья, наплевать, что баню затопят? Ежели дождя не будет, надо сегодня и срубить дотемна. Пятнадцать-двадцать километров до деревни можно пройти и ночью, дело привычное. Иван Африканович пошел быстрее и припомнил долгоногого кузнеца Митрошу, умершего лет шесть тому назад и не дожившего до девяноста всего трех с половиной недель. Тот, бывало, рассказывал, как шел однажды домой: «Иду с озера, спереди ноша, пуда два корзина с рыбой, да сзади пуда три. До того мне, парень, хорошо идти, птица по лесу поет всякая, солнышко теплое, садиться начало, а встал еще до зари, а надо было еще в тот день сруб скатать да лопату старухе насадить. Иду ходко вроде, устал, ноша тяжелая, да водяной с ней, все равно иду. Иду да и думаю, больно тихо я иду. Дай-ко я побегу».