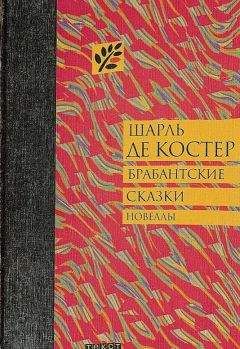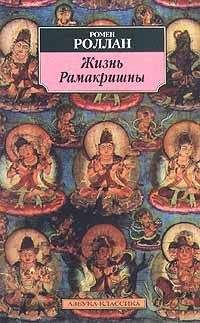«Я много странствовал по Испании, Италии, Нидерландам, Англии и Африке, и все эти мои походы были во славу божию, к чести нашего оружия и ко благу моих народов».
Говорит он долго и под конец объявляет, что он ослаб, что он устал и что он намерен передать своему сыну испанскую корону, а с нею все графства, герцогства и маркизаты.
Тут его величество проливает слезу, а глядя на него, и все остальные.
Король Филипп встает и сейчас же опускается на колени.
«Ваше святейшее величество! — говорит он. — Прилично ли мне принимать из ваших рук корону, когда вы еще вполне можете ее носить?»
Тогда его святейшее величество шепчет ему на ухо, чтобы он обратился с благосклонной речью к тем, что сидят на покрытых коврами скамьях.
Король Филипп, не вставая с колен, поворачивается к ним лицом и говорит презрительным тоном:
«Я недостаточно хорошо знаю французский язык, чтобы на нем изъясняться. От моего имени к вам обратится с речью епископ Арасский, кардинал Гранвелла{81}».
«Неловко у тебя вышло, мой сын», — говорит его святейшее величество.
И точно: гордость и надменность юного короля вызывают у присутствующих ропот. Королева воздает его святейшему величеству хвалу, а затем берет слово престарелый лекарь; когда же он умолкает, его святейшее величество знаком благодарит его. По окончании всех церемоний и речей его святейшее величество объявляет, что его подданные могут считать себя свободными от присяги, скрепляет подписью составленные на сей предмет бумаги, затем встает и возводит на престол своего сына. Все в зале плачут. А затем отец с сыном возвращаются в домик, что стоит в парке. Там они запираются вдвоем все в той же зеленой комнате, и тут его святейшее величество разражается хохотом и обращается к королю Филиппу, который, однако, не смеется.
«Ты видишь, как мало нужно, чтобы растрогать этих людишек? — говорит он, смеясь и икая. — Что слез, что слез! Толстяк Маас, кончая свою длинную речь, ревел, как теленок. Да и ты как будто был взволнован, но — недостаточно. Вот какие зрелища нужны народу. Сын мой! Чем дороже нам стоят наши возлюбленные, тем сильнее мы к ним привязываемся. Так же точно обстоит и с народами. Чем больше мы с них тянем, тем сильней они нас любят. В Германии я терпел реформацию, а в Нидерландах жестоко преследовал{82}. Если бы германские государи остались католиками{83}, я бы сам перешел в лютеранство и отнял у них все достояние. Они убеждены, что я ревностный католик, и со всем тем жалеют, что я покидаю их. В Нидерландах я обрек на смерть по обвинению в ереси пятьдесят тысяч самых доблестных мужчин и самых хорошеньких девушек. Теперь я ухожу — нидерландцы сокрушаются. Не считая конфискаций, я выкачал оттуда денег больше, нежели из Вест-Индии и из Перу{84}, — теперь они обо мне горюют{85}. Я нарушил Кадзанский мирный договор{86}, усмирил Гент{87}, отменил все, что мне мешало, — свободы, вольности, льготы, я все предоставил усмотрению королевских чиновников, а эти жалкие людишки все еще мнят себя свободными на том основании, что я им дозволил стрелять из арбалета и во время процессий носить цеховые знамена. Они постоянно чувствовали на себе мою властную руку. Они сидят в клетке, наслаждаются жизнью, поют и оплакивают меня. Сын мой, будь с ними, как я: благожелателен на словах, суров на деле. Лижи, пока можно не кусать. Клянись, неустанно клянись блюсти их свободы, вольности и льготы, но как скоро заметишь, что вольности сии таят в себе опасность, немедленно упраздняй их. Когда к подданным прикасаются робкой рукой, — они железные, но они же становятся стеклянными, когда ты дробишь их мощною дланью. Искореняй ересь, но не потому, что она противоречит римско-католической вере, а потому, что в Нидерландах она расшатывает устои нашей власти. Те, что нападают на папу, у которого целых три короны{88}, мигом расправятся с государями{89}, у которых корона всего лишь одна. Приравняй, как я, свободу совести к оскорблению величества, влекущему за собой конфискацию имущества, и ты будешь, как я, всю жизнь получать наследства. А когда ты отречешься от престола или же умрешь, они скажут: «Добрый был государь!» — и заплачут».
— Больше ничего не слышно, — сказала Неле, — его святейшее величество лег на кровать и уснул, а король Филипп, надменный и гордый, смотрит на него холодным взглядом.
Тут Катлина разбудила ее.
А Клаас задумчиво глядел на огонь, пылавший в печи.
59
Когда Уленшпигель, расставшись с ландграфом Гессенским, проезжал через площадь, на глаза ему попались сердитые лица Дам и вельмож, но он не обратил на них никакого внимания.
Немного погодя он очутился во владениях герцога Люнебургского, и тут у него произошла встреча с компанией Smaedelyke broeder’ов[31] — веселых слёйсских фламандцев, которые каждую субботу откладывали немного денег, чтобы иметь возможность раз в год ездить в Германию.
Ехали они обыкновенно в открытой повозке, которую шутя влек по дорогам и топям герцогства Люнебургского могучий верн-амбахтский конь, и орали песни. Иные с превеликим усердием дудели в дудки, другие пиликали на скрипочках, третьи играли на виолах, четвертые на волынках. Сбоку повозки какой-нибудь dikzak[32] шел пешком и играл на rommelpot’e — должно быть, надеялся спустить с себя таким образом жир.
Как раз, когда за душой у этой компании почти ничего уже не оставалось, ей повстречался нагруженный звонкой монетою Уленшпигель, и они пригласили его в трактир и угостили. Уленшпигель принял их приглашение охотно. Заметив, однако ж, что Smaedelyke broeder’ы поглядывают на него и перемигиваются, подливают ему и посмеиваются, он почуял недоброе, вышел и стал подслушивать за дверью. И вот, слышит он, dikzak про него говорит:
— Это живописец ландграфа — он ему дал за картину больше тысячи флоринов. Давайте напоим его вином и пивом — останемся в барышах.
— Аминь, — хором произнесли его приятели.
Уленшпигель же отвел своего оседланного осла шагов за тысячу, к одному фермеру, дал работнице два патара, чтобы она за ним приглядела, и, вернувшись как ни в чем не бывало в трактир, сел за столик Smaedelyke broeder’ов. Те раскошелились и еще угостили его. А Уленшпигель, позвякивая в мошне ландграфскими флоринами, похвалился, что только сейчас продал одному крестьянину своего осла за семнадцать серебряных daelder’ ов.
Так, выпивая и закусывая, играя на дудках, волынках и rommelpot’ах и подбирая по дороге всех мало-мальски смазливых бабенок, продолжали они свой путь. Этаким манером они произвели на свет младенчиков, в частности Уленшпигель, — его милка назвала впоследствии своего сына Эйленшпигелькен{90}, что на нижненемецком языке означает зеркальце и сову: по-видимому, истинный смысл прозвища ее случайного сожителя остался ей неясен, а может быть, она назвала сына в память того часа, когда он был зачат. Это и есть тот самый Эйленшпигелькен, о котором пущен ложный слух, будто он родился в Книттингене, в Саксонии.
Добрый конь вез их по дороге, по обеим сторонам которой раскинулась деревенька и при которой стоял трактир под вывеской In den ketele, то есть В котле. Оттуда приятно пахло жареным мясом.
Игравший на rommelpot’e dikzak пошел к baes’у и сказал ему про Уленшпигеля:
— Это ландграфский живописец — он за всех заплатит.
Baes, убедившись, что лицо Уленшпигеля внушает доверие, и послушав звон флоринов и daelder’ов, уставил стол выпивкой и закуской. Уленшпигель в грязь лицом не ударил. А в кошельке у него все время звенели монеты. Этого мало: время от времени он хлопал себя по шапке и приговаривал, что тут зашито главное его богатство. Пиршество длилось два дня и одну ночь. Наконец Smaedelyke broeder’ы объявили Уленшпигелю:
— Давай расплатимся и отчалим.
Уленшпигель же им задал вопрос:
— Если крыса забралась в сыр, думает она уходить?
— Нет, — отвечали они.
— А когда человек вдоволь ест и пьет, скучает он по дорожной пыли и по воде из луж, с пиявками?
— Нет, — отвечали они.
— Ну, так поживем и мы здесь, — рассудил Уленшпигель, — до тех пор, пока мои флорины и daelder’ы служат воронкой, через которую в наши глотки льется живительная влага.
Он велел хозяину подать еще вина и колбасы.
Пока они ели и пили, Уленшпигель хвастался:
— Я плачу, я теперь ландграф. Ну, а когда в моей мошне будет пусто, что вы станете делать, друзья? Вы приметесь за мою мягкую войлочную шляпу и обнаружите, что там везде — и в тулье и по краям — зашиты каролю.