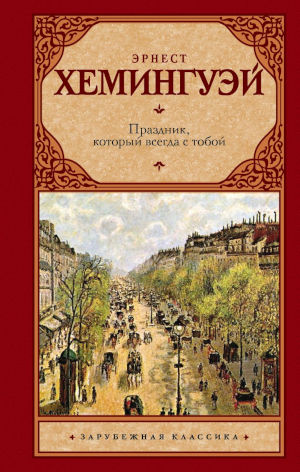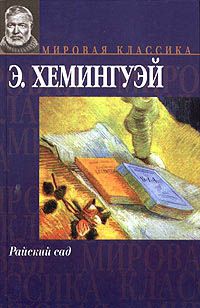сугубо европейская болезнь, и я не могу ничего о ней знать, даже если читал медицинские книги своего отца, поскольку в них рассматривались только чисто американские болезни. Я сказал, что мой отец учился и в Европе. Но Скотт заявил, что воспаление легких появилось в Европе только недавно и мой отец не мог ничего о нем знать. Он, кроме того, заявил, что в разных частях Америки болезни бывают разные и если бы мой отец практиковал в Нью-Йорке, а не на Среднем Западе, то он бы знал совершенно другую гамму болезней. Он так и сказал: «гамму».
Я сказал, что в одном он прав: в одной части Соединенных Штатов встречаются болезни, которые отсутствуют в другой, и привел в пример относительно высокую заболеваемость проказой в Новом Орлеане и низкую — в Чикаго. Но я сказал, что врачи имеют обыкновение обмениваться знаниями и информацией, и теперь, когда он заговорил об этом, я вспоминаю, что читал в «Журнале американской медицинской ассоциации» авторитетную статью о воспалении легких в Европе, где история этой болезни прослеживалась до дней самого Гиппократа. Это на время заставило его умолкнуть, и я уговорил его выпить еще макона, утверждая, что хорошее белое вино с низким содержанием алкоголя — апробированное средство против этой болезни.
После этого Скотт немного повеселел, но скоро снова впал в уныние и спросил, успеем ли мы добраться до большого города, прежде чем у него начнется жар и бред, которые, как я ему уже сказал, являются симптомами настоящего европейского воспаления легких. Тогда я рассказал ему содержание статьи о той же болезни во французском журнале, которую прочел, пока ждал в американском госпитале в Нейи очереди на ингаляцию. Слово «ингаляция» несколько успокоило Скотта. Но он опять спросил, когда мы доберемся до города. Я сказал, что если мы поедем без остановок, то будем там минут через двадцать пять, словом, в пределах часа.
Потом Скотт спросил меня, боюсь ли я умереть, и я сказал, что иногда боюсь, а иногда не очень.
К этому времени начался сильный дождь, и мы укрылись в ближайшей деревне в кафе. Я не помню всех подробностей этого вечера, но когда мы наконец попали в гостиницу, — кажется, это было в Шалоне-на-Соне, — было так поздно, что все аптеки уже закрылись. Как только мы добрались до гостиницы, Скотт разделся и лег в постель. Он не возражает умереть от воспаления легких, сказал он. Единственное, что его тревожит, — это кто позаботится о Зельде и маленькой Скотти. Я не очень представлял себе, как сумею заботиться о них, поскольку мне приходилось заботиться о моей жене Хэдли и маленьком Бамби и этого было вполне достаточно, однако я сказал, что сделаю все, что в моих силах, и Скотт поблагодарил меня. Я должен следить за тем, чтобы Зельда не пила и чтобы у Скотти была английская гувернантка.
Мы отдали просушить нашу одежду и были теперь в пижамах. Скотт лежал в постели, чтобы набраться сил для единоборства с болезнью. Я пощупал его пульс — семьдесят два в минуту, и потрогал лоб — холодный. Я выслушал его и велел ему дышать поглубже, но ничего необычного не услышал.
— Знаете, Скотт, — сказал я. — У вас все в порядке. Но чтобы не простудиться, полежите немного, а я закажу лимонного сока и виски, и вы еще примете аспирин, и будете чувствовать себя прекрасно, и даже обойдетесь без насморка.
— Все это бабкины средства, — сказал Скотт.
— У вас нет никакой температуры. А воспаление легких, черт подери, без температуры не бывает.
— Не ругайтесь, — сказал Скотт. — Откуда вы знаете, что у меня нет температуры?
— Пульс у вас нормальный и лоб на ощупь холодный.
— На ощупь, — сказал Скотт с горечью. — Если вы мне настоящий друг, достаньте термометр.
— Но ведь я в пижаме.
— Тогда пошлите за ним.
Я позвонил коридорному. Он не пришел, и я позвонил снова, а потом вышел, чтобы разыскать его. Скотт лежал, закрыв глаза, и дышал медленно и размеренно, — восковая кожа и правильные черты лица делали его похожим на маленького мертвого крестоносца. Мне начинала надоедать эта литературная жизнь — если это была литературная жизнь, — и мне не хватало ощущения проделанной работы, и на меня уже напала смертная тоска, которая наваливается в конце каждого напрасно прожитого дня. Мне очень надоел Скотт и вся эта глупая комедия, но я разыскал коридорного, и дал ему денег на термометр и аспирин, и заказал два citron pressé [39] и два двойных виски. Я хотел заказать бутылку виски, но виски продавали только в розлив.
Когда я вернулся в номер. Скотт все еще лежал, как изваяние на собственном надгробии, — глаза его были закрыты, и он дышал с невозмутимым достоинством.
Услышав, что я вошел в номер, он спросил:
— Вы достали термометр?
Я подошел и положил руку ему на лоб. Ото лба не веяло могильным холодом. Но он был прохладным и сухим.
— Нет, — сказал я.
— Я думал, что вы его принесете.
— Я послал за ним.
— Это не одно и то же.
— Да. Совсем, не так ли?
На Скотта нельзя было сердиться, как нельзя сердиться на сумасшедшего, и я начинал сердиться на себя за то, что ввязался в эту глупую историю. Впрочем, я понимал, почему он ведет себя так. В те дни большинство пьяниц умирало от пневмонии — болезни, которая сейчас почти безопасна. Но считать Скотта пьяницей было трудно, поскольку на него действовали даже ничтожные дозы алкоголя.
В Европе в те дни мы считали вино столь же полезным и естественным, как еду, а кроме того, оно давало ощущение счастья, благополучия и радости. Вино пили не из снобизма и не ради позы, и это не было культом: пить было так же естественно, как есть, а мне — так же необходимо, и я не стал бы обедать без вина, сидра или пива. Мне нравились все вина, кроме сладких, сладковатых или слишком терпких, и мне даже в голову не пришло, что те несколько бутылок очень легкого, сухого белого макона, которые мы распили, могли вызвать в Скотте химические изменения, превратившие его в дурака. Правда, утром мы пили виски с минеральной водой, но я тогда еще ничего не знал об алкоголиках и не мог себе представить, что рюмка виски может так сильно подействовать на человека, едущего в открытой машине под дождем. Алкоголь