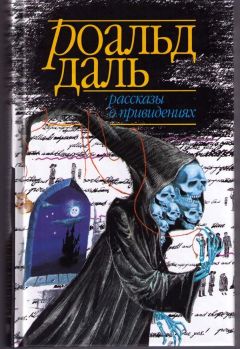— Кэтрин умерла, — ошеломленно произнес он. — Умерла… Мне сообщила ее сестра из Торонто… Она пишет… — он вновь уставился на письмо, словно не веря своим глазам, — она пишет, что у нее остановилось сердце. По ее словам, она умерла спокойно.
Его взгляд скользнул мимо меня и устремился к морю. Потом он встал и ушел в дом, а я… я стояла, наматывая на палец льняную салфетку. Я снова чувствовала себя ребенком, который случайно стал свидетелем родительского горя, — потрясена, да, но при этом ужасно смущена. Я пошла вслед за Алланом и обняла его. Весь день я исподтишка наблюдала за ним. Но мы не упоминали о Кэтрин — на следующий день тоже — и хотя я ждала, что он заговорит о ней, в течение трех недель ее имя ни разу не слетело с наших губ.
Три недели спустя вместе с другими письмами из Лондона, которые нам пересылало почтовое отделение, пришел телефонный счет из хэмпстедского дома — повторный. Про первый мы попросту забыли.
— Черт, — расстроился Аллан (мы снова обедали в саду), — черт, нужно было отключить телефон перед отъездом из Лондона.
Я взяла конверт и посмотрела на дату отправки.
— Сейчас-то его наверняка отключили, — заметила я.
Но Аллан уже отправился на кухню за пудингом.
— Пройди через холл, — крикнула я ему вслед. — Можно узнать, подсоединен он или нет, набрав номер. Если на том конце раздаются гудки, значит, телефон все еще подключен.
Я устроилась в шезлонге, глядя на ягоды рябины, алеющие на фоне синего неба, и думая, что Аллан начинает сутулиться, как старик, что его кожа кажется высохшей от морской соли…
— Ну что? — спросила я. — Все еще подключен?
Может быть, мне померещилось, что Аллан слегка замешкался, прежде чем поставил на стол яблочный пирог и ответил:
— Да… подключен.
В тот вечер я пошла спать одна — Аллан заявил, что ему нужно подрезать фитили в лампах на кухне. В сумерках я сидела на подоконнике, расчесывая волосы и глядя на море, когда услышала, как внизу в холле что-то тихонько звякнуло. Я повернула голову. Но в доме было тихо. Тогда я подошла к двери.
— Хэмпстед, 96 843, — донесся снизу голос Аллана — тихий, напряженный.
Наступило долгое молчание. И потом мое сердце ухнуло в груди, потому что я вновь услышала его голос.
— О, милая моя… милая моя… — шептал он.
Но внезапно замолчал, и из темного холла послышались тихие рыдания. Наверное, я пошевелилась, и под моей ногой скрипнула половица. Потому что я услышала, как он положил трубку, и увидела тень Аллана на стене у подножия лестницы.
В ту ночь мы лежали рядом, но не произнесли ни слова. Я знаю, что Аллан заснул только на рассвете.
В течение следующих нескольких дней мне было очень страшно. Я начала смотреть на Аллана новыми глазами — глазами матери. Во мне проснулось совершенно новое чувство нежности, от которого я едва не задохнулась, которое заставило меня переживать и бояться за него, глядя, как он бродит по дому, словно во сне, трогательно старается делать вид, что ничего не произошло. С каждым часом его лицо старилось все больше и больше от терзавших его страданий. Я начала бояться и за себя тоже. Я постоянно твердила себе, что ничего — ничего — не произошло. Но днем я старалась не смотреть на молчавший черный телефон, неподвижно стоявший на старомодной подставке в холле. Ночью я лежала с открытыми глазами, заставляя себя не думать о телефонном проводе, бегущем под землей от нашего коттеджа прямо на юг, через пограничные холмы, через всю Англию… Всю неделю я старалась не оставлять Аллана одного. Но однажды мне пришлось неожиданно отлучиться в деревенский магазин. Когда я вернулась, то старательно делала вид, что не видела сквозь приоткрытую дверь, как он осторожно положил трубку. И еще дважды вечером — вероятно, были и другие случаи, — когда я готовила ужин, он выскользнул из кухни, и я услышала характерное позвякиванье в холле…
Я могла позвонить на телефонную станцию и попросить их срезать телефон в Хэмпстеде. Но под каким предлогом? Я могла бы взять кусачки и вырвать шнур нашего телефона. Но я понимала, что с помощью кусачек проблему не решить. Однако к концу недели у меня в голове созрел план, как попытаться сохранить здравый рассудок и не погрузиться в пучину нашей общей вины.
В пятницу днем после чая у меня появилась возможность реализовать свой план. Стоял дивный вечер — песок переливался золотом на солнце, с тихим плеском к берегу подкатывали волны. Я уговорила Аллана взять лодку и половить макрель в бухте. Я проводила его до ворот и дождалась, пока он выведет лодку с нашего небольшого пирса. Потом вернулась в дом и закрыла за собой дверь. Я задернула все шторы и едва различала телефон в полумраке. Однако я подошла к нему. Взяла его обеими руками, набрала побольше воздуха и назвала оператору номер в Хэмпстеде. В те ужасные месяцы в Лондоне я слышала о Кэтрин только хорошее — Аллан говорил о ее доброте, мягкости и порядочности и никогда не упоминал о мстительности. На это я и рассчитывала. Стуча зубами и дрожа всем телом, я слушала звонки на другом конце провода. Вероятно, в тот момент я потеряла голову. Мне показалось — готова поклясться — что я услышала, как там сняли трубку. Слова сами сорвались с языка, хотя, наверное, нужно было немного подождать и послушать. Теперь я этого никогда не узнаю. Да и сказала я даже не то, что планировала. По-видимому, от страха я, как в детстве, выпалила что-то вроде молитвы:
— Пожалуйста… пожалуйста… — бормотала я в трубку. — Прошу вас, отпустите его, отдайте его мне. Я понимаю, что поступала плохо. Теперь поздно об этом говорить. Но я больше не буду вести себя, как ребенок. Я позабочусь о нем, как всегда заботились вы, — шептала я. — Только, пожалуйста, отдайте его мне. Я буду ему хорошей женой. Обещаю вам — если это то, что вы хотите. Я могу привести его в чувства, я справлюсь. Я всегда буду рядом с ним.
Я бросила трубку на рычаг и взлетела наверх в нашу спальню. В окно я увидела маленькую лодку, покачивающуюся на волнах. Сидя на подоконнике в лучах заката, я дрожала всем телом и плакала, плакала…
Критический момент наступил под утро. Я проснулась — было, наверное, полпятого. Постель была пуста. В то же мгновение сон как рукой сняло — из холла доносилось настойчивое позвякивание, звук бросаемой трубки, перекрываемый голосом Аллана. Дрожащей рукой я зажгла лампу. По потолку поползли тени, под стеклом зашипел парафин, и я спотыкаясь добралась до лестницы.
— Кэтрин… Кэтрин…
Он тряс трубку и бормотал в нее что-то, когда на него упал свет от лампы. Он уронил трубку и посмотрел на меня.
— Я не могу до нее дозвониться, — пожаловался он. — Я хотел попросить у нее прощения. Но она не отвечает. Я никак не могу к ней пробиться.
Я отвела его наверх. Помню, через открытое окно дул легкий морской ветерок, и я дрожала от холода в ночной рубашке. Я приготовила ему чай, пока он сидел на подоконнике, уставившись на серые утренние облака. Наконец он сказал:
— Ты должна снять себе номер в одной из гостиниц в Обане. Всего на пару ночей. Я вернусь — наверное, завтра или послезавтра. Понимаешь… — и он начал тщательно, вежливо объяснять, словно иностранцу, — понимаешь, я должен найти Кэтрин, поэтому мне нужно неожиданно приехать в Лондон…
Мы живем в отдаленном районе Нагорья, и отсюда ходят всего два поезда в день. Аллан отправился на утреннем. Разумеется, я не собиралась ехать ни в какую гостиницу. Я помнила о своем обещании Кэтрин и знала, куда зовет меня любовь. Я согласилась со всеми доводами Аллана и весь день провела в коттедже. А потом села на вечерний поезд.
Билетов на спальные места не оказалось, и я забилась в угол в вагоне, набитом возвращающимися домой отпускниками. В окне проплывали сумерки, потом их сменил ночной мрак. В темноте и холоде, когда другие пассажиры мирно посапывали во сне, меня душил страх за Аллана. В какой-то момент я задремала и тут же вскочила, едва сдержав крик, потому что мне приснился телефонный провод, который тянулся следом за поездом и напевал:
— Ты никогда не узнаешь. Никогда не узнаешь…
В предрассветном тумане вокзал высился мрачной громадиной. На улицах моросил осенний дождь. Я велела таксисту как можно быстрее ехать в Хэмпстед. Когда он притормозил на подъездной дорожке перед воротами дома Аллана, я уже наполовину выскочила из машины. Сунула ему деньги, захлопнула дверцу и побежала к дому. Я едва успела заметить, что белый дом эпохи Регентства оказался именно таким, каким я его себе представляла, — через секунду я уже стояла на крыльце и дергала железный колокольчик. Я устала, смертельно устала и умирала от страха. Вся моя храбрость куда-то улетучилась.
— Обещаю. Обещаю. Если вы и вправду когда-то здесь были, пожалуйста, пусть вас больше не будет, — бормотала я, промокая под лондонским дождем и слыша гулкое эхо звонка в доме.