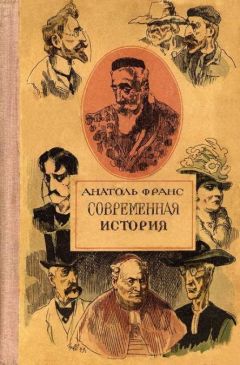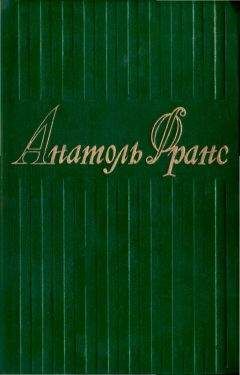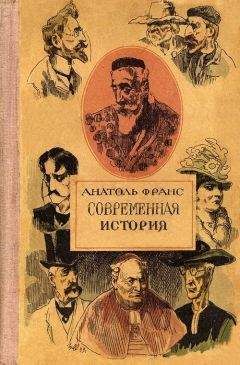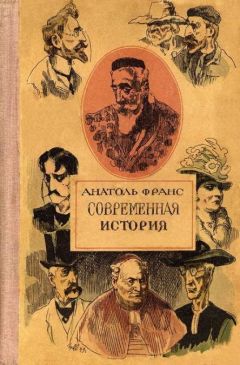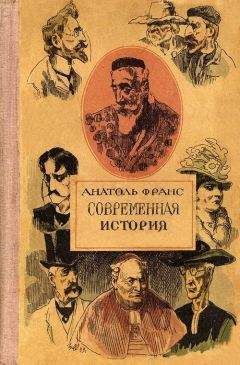— И для честных людей,— ответил Лакрис.
Затем он добавил с благоволением, полным достоинства:
— Благодарю вас, господин Боно, и прошу вас передать мою благодарность нашим мужественным друзьям.
И, повернувшись к Анри Леону, стоявшему подле него, он шепнул ему на ухо:
— Леон, сделайте мне одолжение: телеграфируйте сейчас же его величеству о нашем успехе.
А с улицы в это время доносились радостные крики:
— Да здравствует Дерулед! Да здравствует армия! Да здравствует республика! Долой предателей! Долой жидов!
Под шум оваций Лакрис стремительно уселся в коляску. Толпа заграждала улицу. Еврей барон Гольсберг стоял у дверцы экипажа. Он схватил за руку нового члена муниципального совета.
— Я голосовал за вас, господин Лакрис. Слышите, я голосовал за вас. Потому что, я вам скажу, антисемитизм — это чепуха,— я это знаю, и вы тоже знаете,— чистейшая чепуха! а социализм — это-таки серьезно.
— Да, да. Прощайте, господин Гольсберг.
Но барон не отпускал его.
— Социализм! Не дай бог! Господин Ремонден завел шуры-муры с коллективистами. Так что мне было делать? Я голосовал за вас, господин Лакрис.
Тем временем толпа ревела:
— Да здравствует Дерулед! Да здравствует армия! Долой дрейфусаров! Долой Ремондена! Смерть жидам!
Кучеру удалось прорваться сквозь гущу напиравших избирателей.
Жозеф Лакрис застал г-жу де Бонмон дома, одну, взволнованную и торжественную.
Она уже знала.
— Избран! — сказала она ему, возводя глаза к небу и раскрывая объятия.
И это слово «избран» приняло в устах столь набожной дамы мистический смысл.
Она обвила его своими прекрасными руками.
— Особенно я счастлива тем, что ты обязан мне своим избранием.
Она не раскошелилась для этого ни на грош. В деньгах, правда, недостатка не было, и кандидат-националист черпал их из очень многих источников. Но все же нежная Элизабет не дала ничего, и Жозеф Лакрис не понимал, что она хотела сказать. Она пояснила:
— Я каждый день ставила свечку святому Антонию. Вот почему ты получил большинство. Святой Антоний делает все, о чем его попросят. Отец Адеодат меня в этом заверил, и я сама несколько раз убеждалась.
Она осыпала его поцелуями. В ее голове мелькнула мысль, которая показалась ей красивой и напоминавшей рыцарские обычаи. Она спросила:
— Не правда ли, друг мой, члены муниципалитета носят перевязи? Они с шитьем, скажи?.. Я тебе вышью…
Он очень устал. В изнеможении бросился он в кресло.
Опустившись перед ним на колени, она прошептала:
— Люблю тебя!
И одна только ночь слышала остальное.
В тот же вечер узнал о результате выборов и Ансельм Ремонден в своей квартирке, которую он называл «жилищем сына квартала». В столовой на столе красовалась дюжина бутылок и холодный пирог. Провал поразил Ремондена.
— Так и знал! — проговорил он.
И сделал пируэт. Но сделал его неудачно и подвернул ногу.
— Сам виноват,— сказал ему как бы в утешение доктор Мофль, председатель комитета, старый радикал с лицом Силена.— Ты позволил националистам отравить квартал, у тебя не хватило мужества с ними бороться. Ты ничего не сделал, чтобы разоблачить их враки. Напротив, ты так же, как и они, и вместе с ними затуманивал мозги. Ты знал истину и не осмелился вовремя вывести избирателей из заблуждения. Ты вел себя как трус. Ты провалился, так тебе и надо.
Ансельм Ремонден пожал плечами.
— Ты старый ребенок, Мофль. Ты не понимаешь сути этих выборов. А между тем она ясна. Причина моего поражения заключается в одном: в недовольстве мелких лавочников, попавших в тиски между большими магазинами и кооперативными обществами. Они страдают; они заставили меня заплатить за свои страдания. Вот и все.— И с бледной улыбкой он добавил: — Они здорово попадутся!
Встретив в аллее Люксембургского сада своих учеников, Губена и Дени, профессор Бержере сказал:
— Могу сообщить вам, господа, приятную новость. Мир в Европе не будет нарушен. Сами трублионы подтвердили мне это.
И вот что сообщил г-н Бержере:
— Я встретил на выставке Жана Петуха, Жана Барана, Жана Орленка и Жиля Мартышку, которые глазели на поскрипывающие мостики. Жан Петух подошел ко мне и изрек следующие строгие слова:
— Вы сказали, что мы хотим войны и собираемся воевать, что я высажусь в Дувре, введу вместе с Жаном Бараном войска в Лондон, а затем захвачу Берлин и другие столицы. Вы так сказали; я это знаю. Вы сказали это со злым умыслом, желая нам повредить, дабы уверить французов в нашей воинственности. Так знайте же, сударь: это ложь! Мы не выказываем никаких воинственных наклонностей, а только военные наклонности,— и это совсем не одно и то же. Мы хотим мира, и когда мы установим во Франции республику во главе с императором, мы воевать не будем.
Я ответил Жану Петуху, что готов ему поверить, что я убедился в своей ошибке и она совершенно очевидна, поскольку Жан Петух, Жан Баран, Жан Орленок, Жиль Мартышка и вообще все трублионы достаточно доказали свое миролюбие, так как поостереглись отправиться в Китай {76} и лишь других призывали туда красивыми белыми объявлениями о наборе.
— С тех пор,— добавил я,— мне удалось почувствовать всю изысканность ваших воинских чувств и всю силу вашей привязанности к отечеству. Вы не в силах расстаться с родной землей. Пожалуйста, примите мои извинения, господин Петух. Рад видеть, что вы так же миролюбивы, как и я.
Жан Петух посмотрел на меня взглядом, способным привести в трепет вселенную:
— Я миролюбив, господин Бержере. Но, слава богу, не на ваш лад. Мир, которого я добиваюсь, не похож на ваш. Вы трусливо довольствуетесь миром, который навязан нам в данное время. У нас слишком возвышенные души, чтобы выносить его терпеливо. Этот жиденький, спокойный мир, который удовлетворяет вас, жестоко оскорбляет наши гордые сердца. Когда мы станем господами положения, мы установим другой мир. Мы установим мир страшный, звенящий шпорами, гремящий трубами, звякающий подковами. Мы установим мир беспощадный и суровый, мир угрожающий, ужасающий, пылающий и достойный нас, грохочущий, извергающий громы, мечущий молнии, рассыпающий искры, мир, более устрашительный, чем самая устрашительная война, мир, который скует земной шар леденящим страхом и погубит англичан с помощью оградительных мер. Вот, господин Бержере, вот какими миролюбцами мы будем. Через два-три месяца вы увидите, как вспыхнет наш мир и воспламенит вселенную.
Прослушав эту речь, я был вынужден признать миролюбие трублионов и таким образом постиг правдивость прорицания, начертанного панзустской сивиллой на листе древней сикоморы:
О трублион, о чем хлопочешь?
Напрасно глотки не труди —
Коль мирный дух восславить хочешь,
Так сам войною не смерди.
Салон г-жи де Бонмон стал удивительно оживленным и блестящим со времени победы националистов в Париже и избрания Жозефа Лакриса в Грандз’Экюри. Вдова великого барона объединяла у себя цвет новой партии. Один старый раввин из предместья Сент-Антуан уверовал в то, что кроткая Элизабет привлекла врагов избранного народа по особому повелению бога Израиля. Длань, думал он, некогда приведшая племянницу Мардохая на ложе Ассуэра, пожелала собрать вождей антисемитизма и князей трублионских вокруг еврейки. Правда, баронесса отреклась от веры отцов. Но кто может проникнуть в помыслы Иеговы? Художникам, которым, подобно Фремону, мерещились мифологические фигуры из немецких замков, ее пухлая красота венской Эригоны представлялась аллегорией националистского вертограда.
На ее обедах царила атмосфера веселья и могущества, и каждый ее завтрак носил поистине национальный характер. Так и в это утро за ее столом собралось несколько известных защитников церкви и армии: Анри Леон, вице-председатель юго-западных роялистских комитетов, перед тем поздравивший выбранных националистов Парижа; капитан де Шальмо, сын генерала Картье де Шальмо, и его молодая жена, американка, выражавшая свои националистские чувства таким щебетом, что, слушая ее, можно было подумать, будто птички в вольере принимают участие в наших раздорах; временно отрешенный от должности преподаватель пятого класса лицея Сюлли г-н Тонелье, который произнес в присутствии своих юных учеников похвальное слово в честь покушения на особу президента республики, подвергся за это дисциплинарному взысканию и тотчас же был принят в лучшее общество, где держал себя чинно, если не считать пристрастия к каламбурам; бывший коммунар Фремон, инспектор по делам изящных искусств, который на склоне лет превосходно ужился с буржуазным и капиталистическим обществом, усердно посещал богатых евреев, хранителей сокровищ христианского искусства, и охотно подчинился бы даже диктатуре лошади, лишь бы ему была предоставлена возможность ласкать целый день своими холеными руками безделушки из ценных материалов тончайшей работы; престарелый граф Даван с крашеными волосами, нафиксатуаренный, вылощенный, неизменно красивый, немного хмурый, живший воспоминаниями о золотом веке еврейства, когда он поставлял крупным роскошествующим финансистам мебель Ризенера и бронзы Томира. Некогда фактор великого барона, он раздобыл для него на пятнадцать миллионов предметов искусства и мебели. Теперь, разоренный неудачными спекуляциями, он жил среди сыновей, жалея об отцах, угрюмый, желчный, наглейший паразит, знавший, что только таких и терпят. За столом баронессы был также Жак де Кад, один из инициаторов подписки в пользу вдовы полковника Анри; Гюстав Делион, Астольф де Куртре, Жозеф Лакрис, Гюг Шасон дез’Эг, председатель националистского комитета Сель-Сен-Клу; затем Серебряная Нога, в куртке и штанах из грубого холста, с белой нарукавной повязкой, затканной золотыми лилиями, с густой шевелюрой под круглой шапкой, с которой он никогда не расставался, так же как и с четками из косточек маслины. Это был монмартрский песенник, по имени Дюпон, ставший шуаном и принятый в высшем свете. Он ел словно на ходу, держа между колен старое кремневое ружье, и пил без удержу. Со времени «Дела» во французском фешенебельном обществе произошла перетасовка.