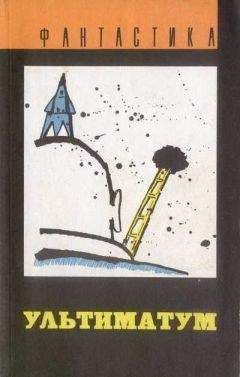Я мог бы дать вам подробное представление низости, обмана, несправедливости, тирании, которые скрываются за этой поэтической картиной мирного труда. Не воображайте, что вид этого чудного неба, этого моря, расстилающегося позади церкви и сливающегося с другим небом, еще более далеким, покрывающим земной шар, как огромное зеркало сознания и мудрости, – даже не думайте, чтобы все это возвышало и развивало их кругозор. Они на все это даже не смотрят. Ничто не трогает их, ничто не руководит ими, кроме трех или четырех мелких чувств: это страх перед голодом, силой, рутиной и законом; в смертный же час ими овладевает страх перед ужасами ада. Чтобы видеть, каковы они, надо их рассматривать поодиночке. Посмотрите на этого великана, обладающего таким добродушным лицом и так ловко подбрасывающего снопы. Прошлым летом его товарищи в пьяной ссоре сломали ему правую руку. Повреждение было опасное и сложное, но я его вылечил. Долго пришлось мне с ним возиться. Я помогал ему деньгами до тех пор, пока он не был в состоянии снова приняться за работу. Он приходил ко мне каждый день. А потом он стал рассказывать, что застал меня в объятиях сестры моей жены и что мать моя пьет запоем. Он не зол и не желает мне зла, напротив, посмотрите, какою искреннею улыбкою освещается его лицо при виде меня. И заметьте, к злословию его побуждала не классовая ненависть: крестьянин не может ненавидеть богатого – он слишком почитает богатство. Но я думаю, что это произошло оттого, что мой наивный крестьянин не мог постигнуть, отчего я вожусь с ним без всякой для себя выгоды. Он подозревал, что тут была какая-то скрытая цель, и не хотел быть моей жертвою. И не он один делает так; и до него это делалось как бедняком, так и богачом, да еще похуже. Ему и в голову не приходила мысль, что он лжет, распространяя эти ложные слухи; он просто повиновался какому-то смутно сознаваемому закону, повелевавшему его нравственностью. Он бессознательно и как бы против воли подчинялся всемогущему приказанию, общему чувству недоброжелательства. Но к чему накладывать последние штрихи на картину, хорошо знакомую всем, прожившим в деревне несколько лет. Вот второе подобие того, что некоторые называют истиной. Это – истина необходимой прозы жизни. Без сомнения, она основана на самых точных фактах, на фактах, единственно доступных наблюдению и проверке человека».
«Сядем на снопы, – продолжал он, – и поглядим еще. Не будем умышленно устранять фактов, даже самых маленьких, из которых соткана действительность. Пусть они сами собой исчезают в пространстве. Они стоят высокой стеной пред нами и заслоняют все от наших взоров; тем не менее мы знаем, что за ними стоит огромная и чрезвычайно интересная сила, которая поддерживает целое. И разве она только поддерживает, а не возвышает его? Наблюдаемые нами здесь люди уже не совсем те дикие звери, о которых говорит Лабрюйер: „Они обладают как бы членораздельною речью, удаляются на ночь в свои логовища, питаются черным хлебом, водою и кореньями…“
Вы скажете мне, что эта порода не так сильна и крепка, – верю. Алкоголь и другие бичи составляют препятствия, которые человечеству надлежит преодолеть; может быть, это – испытания, из которых некоторые из наших органов, например наша нервная система, могут извлечь пользу, ибо мы постоянно видим, что из преодолеваемых жизнью бед она извлекает благо. К тому же какое-нибудь пустячное открытие может нейтрализовать эти беды. Но это обстоятельство не должно заставить нас ограничивать наш кругозор. Эти люди уже мыслят и чувствуют, тогда как те, о которых рассказывает Лабрюйер, не были еще к тому способны». «Но тогда, – пробормотал я, – я предпочту простое и находящееся в совершенно первобытном виде животное отвратительному полуживотному». – «Вы говорите так на основании первого подобия истины, – истины поэтов; но не будем смешивать его с тем подобием истины, о котором у нас теперь идет речь. Мысли и чувства наших крестьян, если угодно, мелки и низменны, но мелкое и низменное все же лучше, чем ничего. У них в обращении лишь такие мысли, которые могут им повредить и содействовать окутывающей их тьме, но это часто происходит в природе. Ее дары прежде всего идут во зло, ими ухудшается то, что она, по-видимому, хотела улучшить. Но в конечном счете из всего этого зла получается известная доля добра. Впрочем, я вовсе не стремлюсь доказать существование прогресса, который в зависимости от той точки зрения, с которой мы будем его рассматривать, может показаться либо огромным, либо крайне ничтожным. Сделать положение человека менее зависимым, менее тягостным – проблема громадная, быть может, самая идеальная наша цель; но, оторвавшись на минуту от материальных последствий, которые являются результатом степени просвещенности людей, мы увидим, что расстояние между тем, кто идет во главе прогресса, и тем, кто слепо тащится позади, весьма незначительно. Среди этих деревенских парней, в голове которых бродят теперь лишь одни бесформенные идеи, встречаются и такие, которые носят в себе возможность достигнуть через короткое время той степени сознания, на которой стоим мы с вами. Часто поражаешься незначительности расстояния, отделяющего так называемое полное невежество этих людей от так называемой высшей степени нашего сознания».
К тому же, из чего состоит наше сознание, которым мы так гордимся? Из гораздо большего количества мрака, чем света, гораздо более благоприобретенного невежества, чем знания, из гораздо большей массы таких вещей, познать которые мы должны отказаться, чем из таких, которые мы уже познали. Тем не менее в сознании заключается все наше достоинство, наше истинное величие, и, вероятно, оно составляет самый поразительный феномен в мире. Оно позволяет нам смотреть в глаза неведомому принципу и говорить ему: «Я тебя не знаю, но что-то, во мне находящееся, уже начинает тебя постигать. Ты, может быть, меня уничтожишь, но если ты это сделаешь не с целью создать из моих останков нечто лучшее, чем я, то ты окажешься хуже меня, и молчание, последующее после смерти расы, к которой я принадлежу, докажет тебе, что ты осужден. Если же для тебя безразличен справедливый суд, то чего стоит твоя тайна? Мы и стараться не будем проникнуть в нее, ибо она безумна и позорна. Ты сотворил случайно существо, для сознательного создания которого у тебя не было надлежащих качеств. Его счастье, что так же случайно тебе удалось подавить его раньше, чем оно успело познать всю глубину твоей бессознательности, и двойное счастье, что он не пережил всей бесконечной серии твоих чудовищных опытов. Этому существу нечего делать в том мире, где его интеллекту не отвечает интеллект вечный, где его стремление к лучшему не может привести ни к какому реальному благу.
Еще раз повторяю: нет необходимости в прогрессе для очарования нас представляющимся зрелищем. Достаточно уже одной энигмы, ибо эта энигма сама по себе огромна и светит таким же загадочным светом в этих крестьянах, как и в нас самих. Она проявляется всюду, как только следуешь за жизнью вплоть до ее всемогущего принципа. Название этого принципа мы изменяем из века в век. Были и такие века, которые давали принципу жизни наименования точные и утешительные, но потом признали и эту точность, и эту утешительность иллюзорными. Но как бы его ни называли: Богом, Провидением, Природой, Случаем, Жизнью, Судьбою, – тайна остается по-прежнему тайной; опыт тысячелетий научил нас лишь придавать принципу жизни наименование более растяжимое, более нам близкое, более гибкое, более отвечающее нашим упованиям и более покрывающее неожиданности. Я говорю о названии, которое он носит ныне, и вот почему принцип жизни никогда не казался более великим, чем теперь. Вот вам одна из форм третьего подобия истины; эта форма истины и есть последняя истина».
Часть VI. Истребление самцов
Если небо остается ясным, а погода теплой, если цветы по-прежнему изобилуют цветочной пылью и нектаром, то пчелы-работницы после оплодотворения царицы, как бы по снисхождению или по забывчивости, а может быть, просто в силу чрезмерной предусмотрительности, еще терпят в течение некоторого времени тягостное и разорительное пребывание самцов. Последние же ведут себя в улье так, как вели себя некогда искатели руки Пенелопы в доме Улисса. Эти почетные любовники, расточительные и бесцеремонные, ведут самый праздный образ жизни, бражничая и пируя. Сытые толстые трутни загораживают аллеи и проходы, мешая работам пчел. Они толкаются, и их толкают. Это какие-то ошеломленные существа, напыщенные незлобным презрением ко всему, но зато, в свою очередь, презираемые другими сознательно и за дело. Они не ведают накопляющегося против них ожесточения и той участи, которая их ожидает. Они выбирают себе на ночь самые теплые уголки в своем улье и, проснувшись, лениво отправляются опустошать открытые для них медовые ячейки, выбирая при том самые душистые и пачкая своими экскрементами соты. Терпеливые сборщицы глядят в будущее, а теперь молча прибирают за самцами. Трутней можно видеть на пороге улья в жаркий июльский или августовский день, между двенадцатью и тремя часами, когда вся природа утопает в сладкой неге. Голова их украшена блестящим шлемом, состоящим из двух огромных черных жемчужин; на шлеме развеваются два длинных султана; рыжеватая бархатная куртка, орден «Золотого руна» и прозрачный плащ дополняют костюм. Они производят страшный шум и смятение, сбивают часовых с их постов, опрокидывают вентиляторш, сваливают с ног работниц, возвращающихся домой и изнемогающих под тяжестью своих скромных нош. Их поступь важная, экстравагантная, нетерпимая, – поступь спешащих исполнить какое-нибудь недоступное пониманию простых смертных дело божеств.