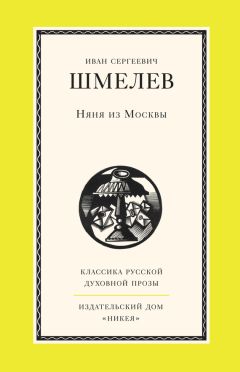Раз проводил ее Гарт домой, ручку поцеловал, уехал. А уж ночь глухая. Только ушел – молодчик к нам, ихняя звезда, испанская. А как же, у них и мужчина тоже звезда бывает. Такой черномазый, ухарь, – все барыни с ума сходили. И бутылку с собой принес. И стали они в соломинки сосать, пойло такое, для баловства. А я гляжу в занавеску: голова к голове, сосут-смеются, ушко об ушко трутся. И уж он, чую, урковать стал, по голосу-то слышу. Да и обнял! Она вскочила… грозит ему, а у меня ноги отнялись, и голосу нет. А он на нее, нахрапом! Она как выхватит из серебряной сумочки пистолет, он сразу и назад, руку к сердцу, пардон сказал. Будто так, представление такое. У них барышне без пистолета никак нельзя.
Зима пришла – к грекам поехала-порядилась, а меня в номерок устроила. Сижу-скучаю, вдруг телеграмма мне! Прочитали знающие, – требует меня к грекам. И все распоряжения дала, наш штас-капитан бумаги мне схлопотал, и на корабль меня посадили – довезли. Катичка встрела, кинулась целовать, шепнула: «без тебя неспокойно, не могу». Возила меня по грекам, старые дома показывала: не на что глядеть, а все глядят, обманное такое место. А потом на руки меня горничной сдала, в номерах. Ну, я с ней и сидела, с гречкой, с грецкой женщиной… не по-нашему они говорят, греки-то, а словно нашей веры. А Катичка картинки делала. Она в простыне сымалась, – показывала мне, – кру-ти-зана, называется… а может, крути-задка, хорошо-то не помню… и ее маслом арапки натирали, и потом она яд пила, из чаши. И еще на спину к лошади ее привязали, по полю все гоняли, много было.
И опять мы в Костинтинополь приехали. А уж ее к немцам порядили, за большие деньги. Опять мы в ту гостиницу, и что-то Катичка невеселая. Я ее и попытала: «может, стесняю я тебя, отдельно бы уж мне лучше?» Годки-то ей подошли, а сами, барыня, говорили – каждой такой артистке незаконный сожитель полагается. Ну, может, я не так говорю… вот-вот, для партекции, как вы-то говорите… и дилехтора добиваются, правда, у ж я это дело знаю. В душу-то к ней не влезешь. Барин слово с меня взял, не оставляла бы… да ведь слово-то мое, а дело-то ее. А она мне: «Надоела, отвяжись». А не по себе и не по себе ей, вижу. Забилась я в уголок, на глаза ей не попадаться, три дни сидела. Она и учуяла, смирение-то мое. Разнежилась, за шею прихватила… – «ах, ты, старенькая моя, нянюля моя, старый ты век, древний человек…» – вспомнила, как писарек ругался, – «мытарю тебя по свету, а не могу… иконка ты моя, хранительница!» Обеи мы и заплакали.
Как-то повез ее Гарт к главным послам на бал. Утром она и говорит: «мне Гарт предложение сделал, рада?» – «Что ж, говорю, человек обстоятельный, на что лучше». И стало мне жалко Васеньку. Она и говорит: «поеду в Париж, а там увидим». И стал он ее просить: «поедем-те в Эн-дию, всякие чудеса увидите», – хотел приучить ее к себе. Уж так для нас старался, оберегал от воров даже… воры круг нас вились… эти вот, вот-вот, иван-тю-ристы. Он и приставил сыщиков, казенных. Один жулик рядом с нами номер снял, жемчуг хотел украсть. А то меня из квартиры выманивали, будто по делу спрашивают, а я не пошла… а в колидоре сыщик троих и зарестовал, уж они с колидорным сговорились.
В Париж нам ехать – проводы нам Гарт устроил, в самом богатом ресторане. Никогда она меня на пир не брала, – да и правда, куда горшку с чистой посудой знаться. А тут, чего-то издергалась, на меня накричала, весь день со мной слова не сказала. И приходит к нам благодетель наш, казак, а он к нам запросто хаживал. С радостью пришел, маленько выпимши: дочка его, с казачонком-то, у сербов отыскалась, и они поженились, и его выписывают к себе. Уж он у грека расчелся. Ну, пришел, а у нас расстройка. Помялся-помялся, видит – угощения не подаем. Я-то ее боюсь тревожить, а она в уголок забилась, насупилась. Он и говорит: «ай загордели, барышня, старого казака не признаете?» Катичка спохватилась… – «нет, я вам рада, давайте чай пить».
Скушный такой сидел. Она и стала его обласкивать, мадерцы подать велела, сардинков… Сама ему наливает: «Родивон Артамоныч, дорогой гость, кушайте, пожалуйста». Так он растрогался, все извинялся, что обеспокоил таких людей. Да еще мадерцы выпил, стал говорить:
«Вы божеского роду, вам счастье Господь пошлет. Думаете, мы не видим? Мы все-о видим… старушку как уважаете, простого человека. Я графьев не люблю, они го-рдыи… а вас я признаю-уважаю, наша вы, расейская барышня… не можете возгордеться! Казак – вольный человек, никому не обязан. И вот от старого казака…»
Вынул из кошелька Тихона Задонского образок, с двугривенный, об ушке, серебряный, и дает Катичке:
«Этот образок заветный, святой человек мне дал, на войну когда… не будет печали, говорит. Мне теперь нет печали, дочку нашел. А вы, барышня, скучаете, я все вижу… всякую печаль разгонит!»
Приняла она образок, перекрестилась, так ей приятно стало. И поцеловала нашего благодетеля в голову. А он так растрогался: «не будет вам печали, попомните старого казака…» И сразу нам легко стало. Вечер подошел, на пир ехать, она и говорит: «собирайся, няня, хочу с тобой». Я и так, и сяк, куда мне, грошу, с рублями… – нет и нет: «хочу так, мне с тобой легче, хоть ты и допотопная». Особо неприличного нет, понятно… все уж ко мне привышны, няня я ее старинная.
Пи-ир… – словами не сказать. Парадные нам покои отвели, в огнях, и все знакомые, и сымальщики, и англичаны, и итальянцы-ы… кого-кого только не было! А Гарт на главное место Катичку усадил, и букеты ей, и… себе белый цветочек приколол. И все генералы были… с саблями даже были. И шимпанское вино в серебряных ведрах приносили, и кремы, и пирожки… самый богатый пир. А я с краюшку сидела, вязала. На мне шелковое платье было, муваровое, и наколочку Катичка мне приладила, – сижу, будто я образованная. И уж ночь. Они разговаривают-пируют, а я дремлю. Как мне под руку ктой-то!.. Глянула я, – уси-щи, чисто щетка сапожная, морда-а… – самовар медный. Итальянец это ко мне пристал, с парохода капитан, на его пароходе хотели ехать. Пристал и пристал: желаю с вами выпить! А я непьющая, да испугалась, сказать не умею, а он мне в губы сует, шимпанское вино. Я его под локоток чуть, отвязался чтобы, бочка и бочка винная. Он и скажи, – после уж я узнала: «красавица такая, и старый товар за собой таскает», – про мен я-то: «для охраны таскает… строгой у ведьмы глаз!» Она и услыхала! Да тревожная все, да шинпанского-то вина пригубила… она и загорячилась: «не хочу слушать дерзостев, просите у ней прощенья!» Скандал такой, и Гарт перепугался, успокаивать ее… сижу-дрожу, а она – чисто архангел грозный! А итальяшка – пьяней вина, бух на колени передо мной! – истинный Бог. Страмота такая. «Мадама, – говорит, – простите меня, грешного!» Руку мне и поцеловал, безобразник. И винищем-то от него, и табачищем, и чесночищем… И перед Катичкой на коленки встал. А она развертелась вся, встала возля меня и давай кричать:
«Старый товар, она, ведьма она?.. а лучше для меня всех!» – не могу, барыня, не плакать.
И выстерика с ней случилась. Гарт ее подхватил, нюхать ей соли вострой. Больше и не пировали. Гарт нас на автомобиле домой привез, так беспокоился. Только отъехал – она на меня топать!
«Из-за тебя, дуры, такой скандал! Стыдно мне!..»
Утром рано вскочила, в телефоны Гарту посмеялась. А я и глаз сомкнуть не могла, все плакала. Подбежала – поцеловала в глаз. А я притворилась, – сплю, мол: стыдно мне. Куда-то убежала. Прибегает – чурек мне горячий принесла, и сама жует… – любила я их, горяченькие, будто калач наш.
Поехали мы в Париж. То по морю хотела, а тут сразу отменила – по машине. Цельный дом с собой повезли, се-эмь сундуков, да чемоданы, да у меня на руках сколько, – приданое будто набрала. Провожали с почетом, и Гарт провожал, – в Париж обещался быть. Вот у ней рвали деньги, наша беднота! А она – сколько ни попроси, все отдаст. Я уж у ней деньги отняла. То рвалась в Париж скорей, а как поехали, ну… издергалась: успеем в Париж, сворачивай. Приедем куда – нет, в другое место поедем. Закружила она меня. То ямы в горе смотреть, то дворец ей занадобится… измаяла меня. Приедем в какой город, – опять газетчики эти, и так, шлющие, карточки с нас сымают… Вот, цыган венгерской и прицепился, – говорила-то я, – на гитаре нам все звонил… Венгры там живут, ехали-то мы?.. Наняла автомобиль, прорву какую-то глядеть, самая-то глухая глушь. Будто нам и в Париж не надо, – все она мудровала. А к ночи, место глухое… – автомобиль и поломайся, не может ехать. И говорит, шофер, вылезайте. А он страшный венгер, живой разбойник, глазами на нас так… – вылазьте! Думаю – ограбить нас хочет, нарочно автомобиль сломал. А на нас цельный капитал, жемчуг один большие тыщи стоит, на Катичке, под мантой… а у жуликов глаза вострые, даст кулачищем – и обирай. Слышим – за нами скрып! пять подвод, как вагоны, и машина их волокет, и вой там, будто грызня какая. А это цирки бродяжные, зверей везли. Рыкают звери, грызутся там… остановились вагоны. Хозяева подошли, поантиресовались, и девка выпрыгнула, цыганка вроде, лупоглазенькая, стала лопотать. И хозяева кричать стали. Все с трубками, в таких вот шляпах, чисто пастухи, а глаза самые разбойничьи. Промеж двух огней и попали, – грабь и грабь. Катичка за ручку с ними, и говорит мне: поедем со зверями! Нас и посадили в вагон, девка вот где жила. Коморочка такая, и постелька у ней, чисто так, вонь только, от зверей. Дожили до чего! На переду две клетки: тигра сидела, и еще полосатенька какая-то… а сбоку лев головастый ехал, в другой клетке. Они всю дорогу и дрались лапами, через прутья, рыкали все. Девка на них визгнет – гей! – они и поутихнут. Говорила – без глазу нельзя оставить: клетки могут разворотить. Схватятся через прутья, так все и задрожит, вот-вот прутья посыпаются, разорвут нас звери. Остановились ночевать в поле, огонек развели. Кости они все грызли, кровяные… рвут друг у дружки, рыгают, из пасти у них воня-ет… не дай-то Бог. А Катичке занятно. Все мне так: «где это, нянь, видано… куда попали!» И сдружилась она с той девкой. Та наряд надела, почесть что голая, только в сапожках… в висюльках-бисере, все ляжки голые у бесстыжей… к тигре при нас входила, с одним хлыстом! Тигра на нее раззявится, зашипит, а боится, на брюхе припадает, глазищи дремучие… не мигнут. Я даже глаза закрыла, страсти. Катичка и говорит: «и я к тигре хочу!» Молила ее, – никак: хочу и хочу. А девчонка еще задорит. Ни жива ни мертва, сижу-плачу… а та вошла, хлыстом погрозилась, – манит. Катичка и вошла. Уставилась на тигру, – тигра на лапы и припала… на Катичку так, только усы дрожат. И тигру заворожила! Побранила я ее, она и говорит: