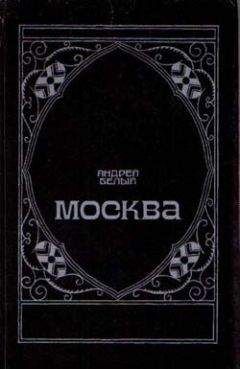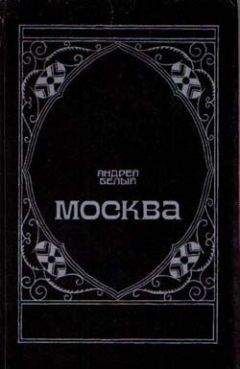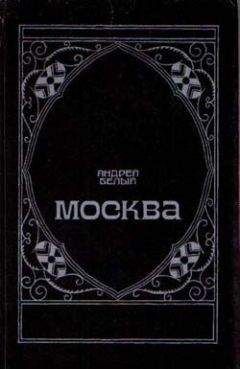Что прикажете делать: не город – разлужа – Москва!
За обедом рассказывал, как он студента словил: подвязавшись салфеткой, похрустывал смачно коричневой корочкой уточки он:
– Бесподобная утка: съедобная.
Тон Василиса Сергевна давала:
– Вы что насвинячили, – и указала на крошки, – вам надо б клеенку стелить.
Глаза поднял: и – съежился.
– Пахнет от вас сургучами и жженой бумагою: одеколоном попрыскались бы.
– Дело ясное: я – не вонючий мужчина; зачем мне душиться! – вскричал, и морщинки раздвоем разрезали лоб.
Надоели ему эти приворчи.
Трах, – бутеженило стуло: не видел, что надо, схвативши тарелку, бежать в кабинетик; и вместо того ей перечил; Надюша глядела такой сердоболенкой; очень тревожила: подпростудилась; и – кашляла: не одевалась, страдала задохой; профессор вздохнул, посмотрев на нее, точно Томочка-песик, покойник.
И видом бессмыслил; осмысленны были очки, а все прочее – нет: с неосмысленным видом сидело и кушало; после – бродило по комнатам; дух отлетел – вычислять; наблюдений вьюки ожидали его: принялся за развьюк наблюдений; открытие, скрытое им, рисовалось огромным и несшим взворот мировой; уже смятый вихор отвисел над разножкой колючего циркуля; круг – начертился; мурашником стала его голова.
Вдруг встал; и – попер в прямолобом упорстве, шепча себе под нос, – от шкафа до двери, от двери до шкафу:
– Пронюхали!
И на крутом повороте рукою взмахнул, будто дал под-тетеху себе, потому что в сознанье влепились пощечиной звонкою – баки Мандро.
Стало – жутко, как будто бы водопроводные краны открылись.
***
Казалось, что тихо, а – либо: чем тише, тем лише; далил от себя эти мысли; боялся застенного уха, придверного глаза; и даже, признаться сказать, заоконной фигуры, которой не видел еще, но которая – будет, наверное будет: теперь!
Раз стоял он спиною к окну; показалось – квадрат белой двери, мигнув, перерезала тень от фигуры, стоявшей в окне; повернулся он слишком стремительно – кровь прилила, зарябило: в окне – никого; между тем: тень на белен, квадрате дверном означала, что кто-то в окошко глядел; не могла без носителя тень появиться; не мог допустить что уж тени восстали на тех, кто отбрасывал, что обладатели тени – бестенны, что – брань между ними, что – Тартар открылся и что человек – в Тартар рушится: вместе: с… Москвой.
Суть не в этом: а в том, что она – в том, – что однажды просунулся носом в окно, в ту минуту, как сунулся носом в окно кто-то – с улицы: черненьким был он; не то человечец псеносый, не то – пес с лицом человеческим: стукнулись бы друг о друга: стекло разделяло; «псеносец» пошел наутек от окна, оказавшись вполне карапузиком; он – улепетывал.
Впрочем, – кто знает?
Рассеянность – чорт! Странно то, что – запомнилось: странно и то, что – навязчиво после, уже в голове, обросло этой чушью, турусами многоколесными: в мыслях поехали всякие там на телегах – на шинах, автобусах, автомобилях – Андроны, Евлампии, Яковы (или – как их?), те, которые едут с Андроном, когда выезжает Андрон на телеге своей: в голове утомленной! Как будто нарочно кто в уши вздул чуши.
Твердилось:
– Открытие, сударь мой, перехватить бы не прочь «они»!
– Ясное дело!
– У «них» небось губы не дуры.
– Появится, чорт побери, ко мне эдакий, – ну там – Мордан, да…
– Они…
Кто «они»? Неужели – Андроны, Мандроны, Мандры, Мандрагоры, Морданы? Ведь чушь, в корне взять: с извлеченьем корней он не справился; чушистей прочего то, что с усилием им извлекаемый корень – Мандро. Ну, при чем же Мандро? Что приехал пронюхать – одно; что какой-то мальчишка, псеглавец, сидел за окошком – другое: сидел ли еще? Третье…
Раз – показалось: когда он с салфеткой в руке из столовой взошел в кабинетик, он видел, что Дарьюшка вздумала пыль обтирать в таком месте, где пыль не стиралась; ковер отогнула; сидела на корточках – перед тем самым квадратцем паркетика, под… под… которым… – тсс-тсс! Увидев, что профессор вошел, – ну паркет протирать; он спровадил ее, двери запер; и – справился, что под квадратом?
Все – цело: листочки лежали… в порядке!
Их вынул, проверил, засунул и перезасунул, пере-пере… спрятал – вполне; но – спокоен он не был; и дверь кабинетика неукоснительно он продолжал запирать; точно трехгодовалый младенец! Стащил бы листки эти к Наденьке; с нею решили б: свезти в Государственный Банк: в стальной ящик, а то начинало мерещиться: вещи стояли и зыбились: стол не стоял, а – качался.
Качалось – все: уж устои московские стали нестоями – не достояли, явив недостойности.
Вихорьки в комнатах уж завивалися, свивались в сплетень, весьма угрожавший стать вихрем: пока он таился, прижатый к кормившей его своей грудью Москве; вот уж, можно сказать, не змееныша вскармливала на груди своей: вихрь – мировой! Он сплетался из маленьких вихорьков: вихорек каждый в квартирочке каждой, сперва под пыльцею тишел; уже после заползал ужом, поднимая все эти невнятицы, взвеивая бумажонки, бросая людей в легкий чох; но, сплетаясь, сплетаясь, сплетаясь, – взвиваясь, взвиваясь – ломал потолок, срывал крышу: в один же октябрьский денечек… – об этом мы после.
Профессор все то объяснял утомлением: переработался: так заработался, что потерял даже сон; все какие-то шли кривуши, кривоплясы; сна – не было; он и во сне вычислял, но совсем по-иному; верней, что – иное; иное счислялося; дифференцировал речь, отвлекаясь от смысла, – на звуки; и вновь интегрировал; происходило же это не в лбу, а скорее – в затылке, в спине; и однажды, проснувшись средь ночи, застал он себя самого над итогом такой интеграции; что ж сынтегрировал он, что всю ночь бормотал, тщетно силясь…
Какую же он ерундашину там «наандронил»:
– Пепешки и пшишки – в затылочной шишке!
– Ах, надо бы, надо бы – да-с: в корне взять – отдохнуть!
Так сплетенница всех наблюдений – псеглавец, Мандро, тень – «пепешки и пшишки» – в затылочной шишке: скопление крови; само звукословье «пепешки» и «пшишки» с «шш», «шш» – шум в ушах:
– Эти «пшишки» – застой крови в мозге. Так он порешил; порешив, успокоился все же.
***
В одну из ночей он, бессонец, со свечкой в руке толстопятой босою ногою пришлепывал по паркетикам, точно Тощ пес, забродил по квартире; и тут натолкнулся он – на основание тех же суждений (верней, вопреки всем суждениям) – на… Василису Сергевну; она – разбледнуха такая: в короткой рубашке козой тонконогой со свечкой, как он, шла навстречу:
– Что, Вассочка – Василисенок мой, – бродишь?
Двояшил глазами.
– А вы?
– И глаза!
– Да не спится.
Мелькали подстрочные смыслы меж ними. Он думал:
– Да, Вассочка, вот – затишела, – додер на халате трепал, – не играет, сказать рационально, глазами; не движет руками: моргает в таком положении, как и в другом… Дело ясное: Вассочка, Василисенок…
И в свой кабинетик вернулся:
– Взять в корне…
Устроил пихели бумажек: в набитые ящики.
Видел во сне: людоеды откушали где-то сухими ушами.
***
Взять в корне, – она, рациональная ясность, разъелась; из-под Аристотеля Ясного встал Гераклит Претемнейший: да, да, – очень дебристый мир!
Говоря откровенно, – профессор Коробкин жил в двух измереньях доселе – не в трех: и не «Я» его, жившее в «эн» измереньях, а Томочка-песик, в нем живший; но Томочка-песик – покойник: он – рухнул; и в яме лежит: «Я» ж кометою ринулось в темя из «эн» измерений, им кокнуть, как кокал Никита Васильевич яйца – за завтраком; так вот из «эн» теневых измерений и двух подстановочных (как на подносике, – расположились на плоскости мы) начинало вывариваться из большой знаменитости и из добрейшего пса – человек.
Раздорожьем все стало!
***
Гнилая зима!
Но гнилая зима – просияла: теплейшим денечком; декабрь стал – апрелем; а он – собачевину вспомнил: уселся грустить, подбородок рукой подпираючи; в карем своем пиджачке, в желто-сером жилетике, под желто-карею шторой сидел, перерезанный желтым столбом копошившихся в солнце пылиночек:
– Томочка – умер!
А солнце слезилось сияющим и крупно капельным дождиком; солнечный дождь – это праведник умер!
Но желтой жестокостью вечер означился; в зелено-серые сумерки сели предметы; их ночь черноротая – съела.
Над мутной Москвой неслись тучи.
Капель подсосулила улицу; все подсосала: пошли пережуй снегов в слюногонные лужи; уже обнаружились камни; уже начиналась разгранка камней о колеса; шныряли раздранцы, разбабы, подтрепы меж серых, зеленых и розовых домиков, перекоряченных, лупленых, каменных и деревянненьких, странно рябых.
Глазопялы – за всем, отовсюду следили; из окон, дверей, подворотен.
Заборик синявый, заборик лиловый, заборик замоклый: меж ними, раздрязнувши, лед ноздреватил; домик от домика защищался забориком; прояснь над ними: прозорное место с фабричной трубой, выпускающей сизый дымок; пятибокая башня торчала: синяво; там издали высился многооконный завод: тряпковарня.