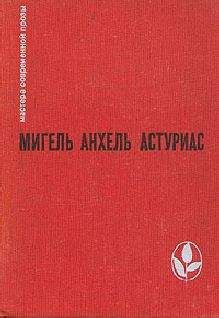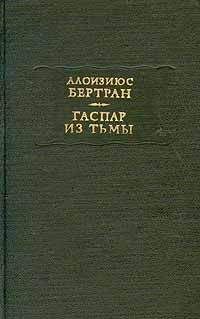деревенский постоялый двор, он глядел на свою тень, длинную, как стручок, и на тень от короба, торчавшего где-то у пупа. Все это вместе напоминало огромную двуутробку. В свете луны он из человека, мужчины превращался в самку двуутробки, которая носит детенышей на животе.
В одну из светлых, как день, ночей он встал под капель белого света, сочащуюся из ран порубленной лунной коры, под вязкий свет, который колдуны и знахари варят и дают попить тем, кто хочет сна и забвения. Свет, белый копаль, таинственный брат резиновой черной тени. Человек-двуутробка, облитый лунным светом, прыгал, и вместе с ним прыгала черная тень.
— Двуутробка, друг коробейников, поведи меня по самым кривым путям или по самым прямым, туда, где сейчас Мария Текун с моими детьми! Мы, люди, носим детей в сумке, как ты, и лица их не знаем, смеха не слышим, говорить не учим, пока они там сидят, полматери займут, а потом она их извергает, выбрасывает наружу и выходят они сюда, в горячую шерсть и холодную влагу, совсем такие, как ты, мохнатые, визжачие, темные. Помоги, двуутробка, лотошнику Гойо Йику, чтобы он поскорее узнал свою Марию Текун по голосу и по смеху, звонкому, как колокольчик!
Гойо Йик, забредший туда, где водой не утолить жажду, а плоть с превеликой болью прилипает к костям, перевернулся на паперти. Солнце пекло, он вспотел, и пот мешался с пьяными слезами, которыми плачут люди, напившиеся оттого, что им не забыть превратностей жизни. Церковь заперли, женские голоса умолкли, а он все лежал, бессмысленно бормоча и шевеля руками. На ярмарках все останавливались перед его навесом, полотнищем на четырех тростинах, не только ради заманчивого товара, но и ради того, чтобы поглазеть на зверька, прятавшего при виде людей острую мордочку. «Что за зверь такой?» — спрашивали дети и женщины, больше все женщины, в притворном испуге тараща черные глаза, удивленно смеялись и не смели его тронуть, хотя и протягивали руку. Что ни говори, а страшно, да и противно — очень уж похож на большую крысу.
Гойо Йику только и надо было слышать сразу побольше женских голосов — а что, как один окажется тот самый? — и при этом не торговать. Быть может, потому, что торговал он не для наживы, он с каждым дней выручал все больше.
— Это двуутробка, — объяснял он. — Я подобрал се на дороге, она приносит мне счастье, и я ее ношу с собой. И в дождь, и в бурю, и в грозу мы с ней неразлучны.
— А как ее зовут?
— Это самец. Зовут его Двуутробец.
И тогда самые смелые трогали зверька, приговаривая: «Двуутробец! Двуутробчик!», а он не давался, пугался, щетинился. Женщины вздрагивали и принимались рыться в товаре.
Гойо Йик бродил по ярмаркам, и все — одетые в пончо жители гор, торгующие сетями и седлами; индейцы в белом, кукурузные чучела, торгующие ручными мельницами, сбивалками и котелками; другие индейцы, темные, как деготь, торгующие плодами ачиоте, луком, чесноком, семечками; и еще другие, зеленые, хилые, торгующие хлебом в плетеных сетках, цукатами, грейпфрутами, кусками кокоса, коврижками с анисом, — все знали его под именем Двуутробца.
— А я не сержусь, на деток тем более. Я — Двуутробец, ты — Двуутробочка… — ласково приговаривал он, поглаживал ее, приманивал, и женщина согласилась с ним пойти. Глина, лес, озерцо, из которого тучи пили воду… Женщина была с ним до утра, и он от нее не отрывался, разве что на такое расстояние, что можно бы просунуть нож. После ухода Марии Текун его как запечатали, только ею он жил, и вот — он с другой женщиной! Радости он не испытывал, только плоть его, усталая шкура, разрывалась между Марией, которая жила внутри, и какой-то чужачкой, которая была снаружи. Он — и с женщиной… Все не то, главное — запах не тот. Блестящие тонкие волосы Марии Текун пахли сосновыми ветками в очаге, груди ее, словно тыквенные миски, были во всю ширину его груди, ноги крепкие, живот впалый. Он чувствовал внутри себя запах Марии Текун, а вне его, под ним, в бесконечной, звездной ночи пахла чем-то своим чужая женщина. Гойо Йик закрыл глаза и уперся руками ей в грудь, чтобы приласкать ее, встать и уйти. Женщина как будто зубами заскрипела, костями заскрипела, потянулась, сжалась, и по лицу ее потекли слезы и раскаяния, и наслаждения. Гойо Йик стал пробираться в темноте — не то во мраке, не то в земле, насыпанной за утлыми ярмарочными постройками. Небо шевелилось. Ему нравилось, что небо ходит, как часы. Гремели маримбы, пели гитары, хрипло выкликали продавцы бульварных книжек: «Петух Петра-апостола»! «Морская русалка»! «Сам себя языком прикончил»! «Сам себя ужалил»! «Женский портрет»! «Трехцветное знамя»! Гойо Йик миновал всякие игры — и шары, и лотерея, и колесо фортуны, будто магнит, притягивали людей — и добрался наконец до своего шалаша, где под семью замками хранились его фальшивые сокровища. Он бросил монетку тому, кто любезно за ними присматривал, и сразу сунул руку в мешок, где оставил двуутробку. Все же погладишь ее — и не так совестно. В мешке было пусто. Кончики пальцев не уткнулись в мохнатую спинку, и по руке как будто пробежал ток. Зверек исчез. Гойо Йик помял мешок, ничего не нащупал, швырнул пустое вместилище на свой короб и застыл. Цветок амате, обратившийся в двуутробку, оставил по себе пустой плод, он сбежал, чтобы тот, кто видел женщину, не видел ни его, ни Марию Текун. Любимую не видишь, она — цветок амате. ведомый только слепым, цветок слепцов, цветок ослепленных любовью, ослепленных верой, ослепленных жизнью. Гойо Йик рывком снял шляпу. Тут какая-то тайна, подумал он и чиркнул спичкой, чтобы увидеть двуутробьи следы. Они были тут — неглубокие, легкие, но были. Он стер их левой рукой, пыль осталась на пальцах и на ладони, и он провел рукой по лицу, по языку, вонючему от чужих поцелуев, и закрыл глаза, тщетно пытаясь найти ту, кого уже не встретит ни наяву, ни в темном гробу, сделанном по его мерке, в темном гробу своих закрытых глаз.
— Эй, Двуутробец! Расхотелось тебе — так дай мне чго-нибудь!
Гойо Йик услышал этот голос в печальной тишине уснувших ярмарок и, больше ничего не ожидая, схватил свой короб, направился туда, где виднелось под простыней женское тело, поймавшее его в ловушку, и кинул в него весь большой, застекленный ящик. Темная тень,