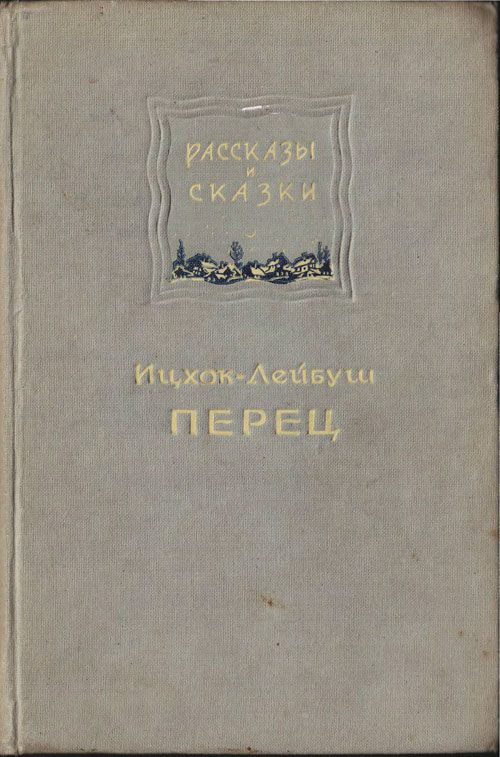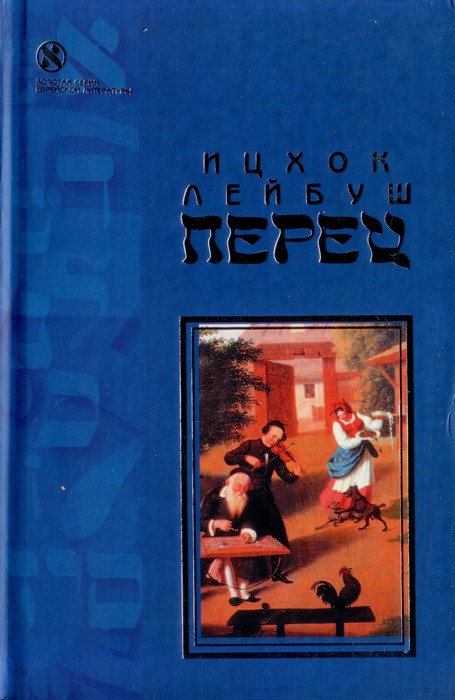тепло, так сухо.
Когда мать клали в постель, "чужие" хотели что-то вынуть у нее из рук, но мать не далась… Наверно, ушки! Она юркнула под одеяло и нашла там руку, рука легко раскрылась; вынырнула оттуда с чем-то белым, тонким и жестким; сунула в рот — не жуется. Вынула обратно и давай разглядывать — в углу на белом портрет какой-то, маленький.
— Что это… мама? — будила она мать.
Но мать не отвечала.
Вошли две женщины. Одна дала ей печеньице и вынула из рук белое. Это — письмо, но женщины не умеют читать.
Вошел мужчина, приоткрыл мать, оглядел ее и взял за руку.
Тут она подняла крик, она боится, как бы у нее не забрали мать. И холодно ей вдруг стало. Но ей сунули что-то в рот, и она умолкла.
— Реб Мордхе! — сказала одна из женщин, — прочтите письмо.
"Чужой" почитал и закачал головой.
— Муж пишет, от тяжелой работы занемог. Портной он, работает больше восемнадцати часов в сутки. Просит прислать денег, чтобы вернуться домой…
— Еще сладкого! — перебила его малышка и вытянула руку.
Женщинам, однако, не до нее.
— И чего он туда поперся!.. — сказала одна.
В постели было жарко, а тут еще затопили печь.
Какая это была чудесная ночь! Мать греет ее, у постели дремлет "чужая"; пробудившись, женщина что-то сует матери в рот. Ей тоже хочется этого. Она уже готова закричать, но "чужая" боится ее крика и сует ей что-то сладкое, называет она это "лекех", затем она садится обратно и снова дремлет. А чело в печи открыто, там огонь… Ох-ох-ох, какой красный, какой красивый! Он вьется, он пляшет — цик-цик-цик! — то черный, то вновь красный. Ох, какой он багрово-красный!
Однажды ночью ее укутали в теплую шаль и понесли — сначала несли куда-то вдаль, потом по ступенькам вверх, наконец доставили в чужую холодную квартиру. Посредине комнаты сидела маленькая старая женщина и щипала перья. У стен на сенниках спали дети.
Обдирщица пера и с места не сдвинулась, только спросила визгливым, прерывающимся голоском:
— А платить кто будет?..
— Уж заплатят! — ответили женщины, которые принесли ее.
— Мама! — заплакала вдруг малышка в страхе.
Никто, однако, не обернулся к ней.
— Сирота? — спросила снова обдирщица пера.
— Нет еще…
— Мама…
— Не реви, корова, — наставила ее одна из женщин, — мама уехала.
Внезапно ей стало весело, и живой огонек сверкнул у нее в глазах.
— К па-пе?
Никто, однако, ей не ответил.
— А где она будет спать?
— Сегодня со мной.
Женщины уложили ее в холодную постель, шаль забрали, она задрогла вся.
— Мама! — расплакалась она еще сильней.
— Уймите ее, Фрейда! — сказали женщины.
— Ладно, идите, — ответила обдирщица пера, — это уж мое дело.
Женщины ушли, а старая поднялась и направилась к ней.
— Молчи! — сказала она жестко и сухо.
Малышка в испуге примолкла.
Вместе с остальными четырьмя детьми она получала теперь по утрам чай и кусок хлеба. Чаю она уже давно не пила, даже забыла, какой он. Днем давали немного картошки или каши, вечером снова чай и хлеб. Она была почти сыта, и вое же ей тут не по себе. Она не любит детей, боится Фрейды и тоскует.
— Мама…
Но стоит Фрейде взглянуть на нее, и она молчит. Фрейду она ненавидит.
Однажды ночью (у нее все еще нет своего сенника, и спит она до сих пор не ночью, а днем) у нес явилось желание обернуться к "старой", искусать, исцарапать эту злюку. Но Фрейда спит с полуоткрытыми глазами, и малышка тотчас испуганно повертывается к стене.
— Улежишь ты, наконец? — завизжала Фрейда и бухнула ей в плечи костлявым кулаком.
Со временем она забыла мать, но все ж она, не переставая, тосковала и вопила беспрерывно: "Отпустите, отпустите!"
С той поры как она обрела собственный сенник, она стала Фрейды меньше бояться; удирая от нее, она сбивала детей с ног, колотила их, ломала горшок, пускала перья по ветру. Фрейда кидалась с веником за ней, но, чтобы нагнать эту "дикую тварь", ей нехватало дыхания. Зато она уж позже отыгрывалась на ней. Сейчас она притворится спокойной и тихой, но вот когда "дикая тварь" уснет на сеннике, старая кинется на нее и раздерет ей ногтями все тело. Малышка не плакала, только прикусывала до крови губу. Остальные детишки сидели, притаившись по уголкам, чуть дыша от страха.
Сегодня, однако, все это кончилось. К Фрейде пришла женщина и заявила, что больше за "дикую тварь" платить не будут, "неоткуда взять".
Фрейда сразу же привстала, в глазах у нее загорелся злобный огонек. Она ухватила "дикую тварь" и вытолкала за дверь.
"Дикая тварь" сползла на четвереньках по ступенькам (ходить по ступенькам она не может), и вот теперь, го-го! — она на улице. Как бело, как красиво! Гладкая, белая, сверкающая пелена снега! Го-го!
И она бегает босиком по снегу и смеется…
1915
Перевод с еврейского Л. Гольдберг.
1
Он бегал взад и вперед, совершенно один в пустой среди дня синагоге, и вдруг остановился.
— Господи, кто я?
Кто я? Зовут меня Берл сын Ханци… Так разве я Берл Ханцин? Я — разве имя? Вывеска — это еще не лавка. Дом, в котором живет раввин, называют "Под Карпом", а меня — Берл Ханцин.
В Цяхновке меня знают; знают, кто такой Берл Ханцин. А в Америке? Если бы вот в Америке кто-нибудь произнес вдруг в синагоге эти два слова: Берл Ханцин… Знал бы разве кто-нибудь, что говорят обо мне?..
Иное дело здесь. Здесь каждый либо усмехнется, либо головой покачает, либо просто гримасу скорчит… "Знаем, мол, кто такой Берл Ханцин!" Один подумает — вон тот батлен; другой — этот вот сумасшедший, третий — мало ли чего подумает, а четвертый вспомнит, что имя мне нарекли по дяде Берл. Тайбеле, правда, вздохнет при этом, — она знает, что я несчастный сирота. А в Америке, где имя базарной торговки Ханци никому не известно, где никто и не знает, что жил когда-то на свете Берл-философ и что он приходился братом моей матушке; где никому невдомек, что я тот, про которого говорят: сумасшедший, батлен, сирота, — а быть может, и философ (я, кажется, весь в дядю); ну вот в Америке какое впечатление произвело бы: Берл Ханцин?!
А ведь я как будто все же знаю, кто я? Вот ведь я сам говорю: сумасшедший, батлен… Вот это я и есть!
Да разве я не сумасшедший? Где это видано, чтоб человек стал вдруг