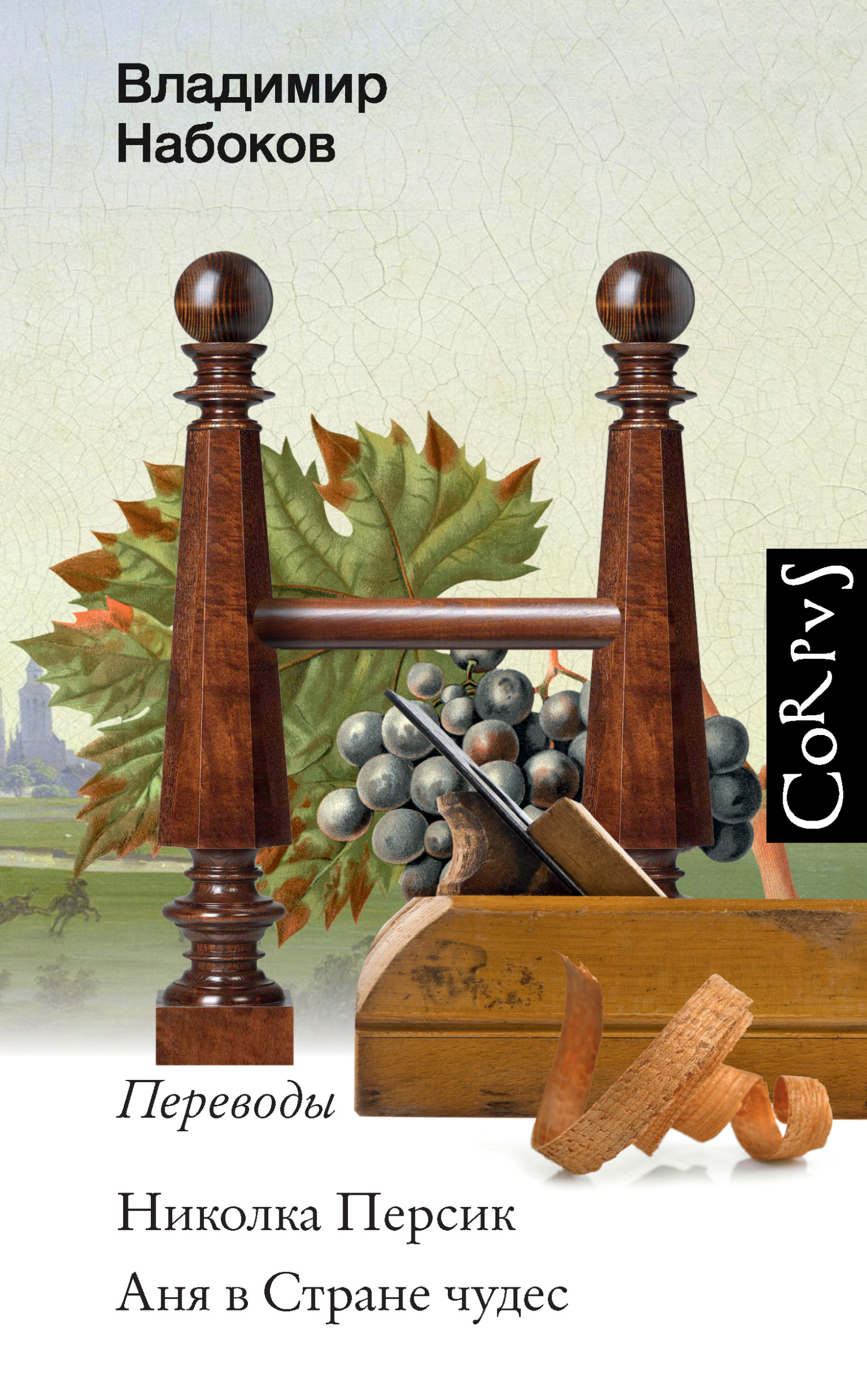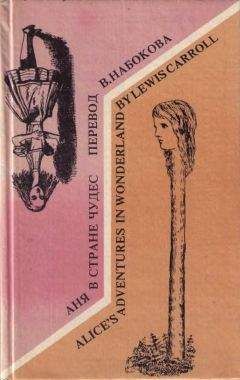Когда в величии своем они так роскошно скучают, ах, если б знали, как они нас забавляют!
О путанице недавней я рассказал, только когда уже подходили к дому. Узнав о ней, Флоридор стал горько упрекать меня за то, что я так дешево сбыл итальянское произведенье, раз они так оценили мое собственное. Я отвечал, что, хоть я и люблю над людьми подтрунить, мне обирать их не хочется. Он упорствовал, ядовито спрашивал, хорошо ли кормит такая односторонняя забава? На какой чорт людей морочить, если это прибыли не приносит!
Тут Марфа, мудрая дочь моя, сказала ему:
– В нашей семье, Флоридор, мы все таковы – большие и малые. Всегда мы довольны, всегда балагурим, всегда мы смеемся над тем, чем друг друга мы потчуем. Мой милый, не жалуйся очень-то. Ибо вот почему ты еще не олень с седьмой головой [57]. Мысль, что могу всякий миг тебе изменить, так меня тешит, что изменять-то не стоит. Но не гляди так сердито. Не сетуй, муж; ведь сводится это к тому ж. Спрячь рожки, улита, я вижу их тень.
Первые дни июля
Верно сказано было: «Беда уходит пешком, а приезжает верхом». К нам-то явилась она вершником орлеанских погонщиков.
В понедельник на прошлой неделе случай чумы был примечен в Фаробе. Зерна растений сорных произрастают быстро. К субботе случаев этих уже было десять. Потом, приблизившись к нам, чума вспыхнула в Кулигах Винных. Суматоха в луже утиной! Храбрецы опрометью бросились бежать. Мы уложили жен и ребятишек и отправили их в дальний городок Мутновулай. Чем-нибудь да полезна беда: в доме нет болтовни. Флоридор тоже уехал с дамами, отговорившись тем – ох, лицемер, – что Марфа на сносе. Всякие важные люди нашли очень важные предлоги, чтобы пойти погулять; запрягли повозку; показалось им нужным как раз в этот день осмотреть свои нивы.
Мы же, оставшиеся, бахвалились. Мы издевались над теми, которые предосторожности брали. Старшины поставили стражу у ворот городских, наказали им всех прогонять, бродяг и смердов, всех, кто войти бы попробовал. Остальные же, знать и те из мещан, у которых кошель был здоров, должны были подчиниться осмотру трех наших врачей: Ефима Пташкина, Мартына Теркина и Филиппа Телькина. Каждый из них налепил на себя в защиту от мора длинный нос, пропитанный мазью целебной, да большие очки. Это нас очень смешило; и Теркин (добрый он был человек) не выдержал. Сорвал он свой нос, говоря, что он не желает дурындиться, да и не верит в эту белиберду. Правда – остался он с носом. Впрочем, и Пташник, который верил в личину свою (и даже на ночь ее не снимал), помер с таким же успехом. И один только выскочил Телькин – самый догадливый: он бросил не нос свой, а службу…
Стой, я мчусь сломя голову и уже оказался на кончике сказки, хоть еще не успел округлить хорошенько вступленье. Начнем сызнова, сын мой, снова возьмем козла за бородку. Ну что, ухватился?..
Итак, мы притворялись бесстрашными рыцарями. Так все были уверены, что чума не почтит нас приездом! Говорят, у нее тонкое чутье; запах наших кожевен отогнал бы ее (всякий знает, что нет ничего здоровее). В последний раз, когда посетила она наш край (это было в тысяча пятьсот восьмидесятом году, мне было – возраст старого быка – четырнадцать лет), она только приблизила нос к порогу нашей двери и, понюхавши, воротилась восвояси.
С хохотом вспоминали мы об этом – добрые малые, удалые, смелые, разумные. Чтобы показать, что мы далеки от таких суеверий, а также от предрассудков врачей и старшин, мы храбро отправились к городским воротам и там, через ров переговаривались с теми, кто остался на противном берегу. Даже одни, из озорства, выскальзывали наружу и шли промочить себе горло в ближний кабак с некоторыми из тех, для которых врата рая были заперты да блюдимы сторожевыми ангелами (и то сказать, они не очень-то строги были). Я поступал так же. Мог ли я оставить их одних? Мог ли я допустить, чтоб другие под самым носом моим веселились, резвились да смаковали вместе свежее винцо и свежие вести? Я сдох бы с досады! Итак, я вышел, увидя старого съемщика, которого я знал, – деда Хлебоеда. Мы с ним чокнулись. То был благодушный толстяк, круглый, красный и коренастый, который так и сиял на солнце пóтом и здоровьем. Он молодцевал еще больше меня, презирал болезнь, объявляя, что все это выдумки врачей. Умирают, мол, одни только робкие голяки, да и то от страха. Он говорил мне:
– Вот мое лекарство, отдаю его бесплатно:
Ноги бережно кутай,
пей в меру, мой друг,
не видайся с Анютой, –
не тронет недуг.
Мы провели добрый час вместе, дыша друг другу в лицо. У него была привычка во время разговора похлопывать собеседника по плечу, мять его ляжку или руку. Я об этом тогда не думал, но припомнил на следующий день. Утром первое слово моего подмастерья было:
– А знаете, дед Хлебоед-то… помер.
Ох! невесело стало мне, холодок прошел по спине. Я сказал себе: «Мой бедный друг, можешь снять сапоги. Ты обречен, недолго ждать».
Иду к верстаку, принимаюсь строгать, дабы рассеяться; но уверяю вас, что не очень-то меня занимала работа. Я думал: «Глупец! Так тебе и надо…»
Но у нас в Бургундии не в обычае ломать себе голову над тем, что нужно было делать третьего дня. Живем мы сегодняшним. Эй, держись за него. Защищаться придется. Враг еще на меня не насел. Я думал было обратиться для совета к врачу. Но потом передумал. Я, несмотря на волненье, еще мог рассуждать по-нашему:
– Сыне, лекарь столько же знает, сколько и ты. Они возьмут твои денежки и чего ради пошлют тебя маяться в чумник, где очумеешь вконец. Держи, не выдай им тайны своей. Ты ведь еще не совсем обезумел? Если дело стоит лишь за тем, чтобы душу отдать, мы ее отдадим и без них. И клянусь (так было и будет), «несмотря на врачей, мы проживем до кончины своей».
Но напрасно я себя разжигал, ободрял, – меня начинало поташнивать. Я ощупал себя тут, там… Ай! – вот она, наконец… И худшее то, что, когда наступило время обеда и я уселся перед полной тарелкой жирных красных бобов, варенных в вине вместе с ломтями просольной свинины (как вспомню я ныне, плачу слезами обиды), силы в себе не нашел я раздвинуть челюсти. Сжалось сердце мое.