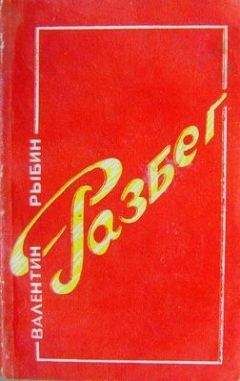— Ах, деверек… — Галия вдруг плотно сжала губы, отчего они скривились, и полезла в карман за платочком, чтобы промокнуть на глазах слезы.
— Что с вами, Галия? — насторожился Ратх.
— Что-нибудь случилось? — перепугался Иргизов.
— Со мной-то ничего… А с другими… Сейчас, когда шла из магазина, я встретила нашу заведующую. Она мне сказала, что басмачи в Тахта убили мою бывшую соседку Джерен. Молодая такая, прямо красавица. Заведующая говорит: пришли басмачи в Тахту, приказали всем женщинам, чтобы немедленно надели яшмак и не показывались нигде без яшмака. Тогда Джерен собрала всех подружек и сказала: «Не хочу жить под яшмаком! Хочу жить с открытым сердцем». Сказала так, а ночью пришли к ней в кибитку человек десять и вырезали ей грудную клетку. «Живи с открытым сердцем!» — сказали… и ушли… Два дня Джерен жила с открытым сердцем, потом умерла. — Галия расплакалась…
Ратх стиснул зубы. Иргизов нахмурился. Долго молчали. Наконец, Ратх не выдержал:
— Вот она, ваша доброта! Вот! Вы их уговариваете, а они отвечают зверствами. Да какими зверствами! Какая изощренность? Палачи средневековья позавидовали бы! Нет, Иргизов… Я никогда не соглашусь с тобой. Пусть я допустил «левачество», но и вы допускаете либерализм!
Две черноглазые девчушки — дочери Амана принесли и поставили на тахту большой фарфоровый чайник и две пиалы. Ратх взялся за чайник. Иргизов озабоченно посмотрел на часы:
— Каюмыч, мне ведь некогда. Я зашел проститься с тобой.
— Спасибо, Иргизов, но я все-таки приду на вокзал, провожу тебя. Ратх налил чай и бросил в пиалу кусочек сахара. — В конце концов, я не из таких, которые вылетают из седла при первом же встречном ударе. Мы еще повоюем за истину.
По улицам Ашхабада, гулко рассыпая дробь копыт, прошли эскадроны туркменской национальной кавалерийской бригады, и снова наступила тишина, перемежаемая паровозными гудками.
С отъездом в Каракумы Амана и Акмурада глухо стало на каюмовском подворье. Правда, днем и раньше во дворе бывало тихо — все мужчины, кроме Каюм-сердара отсутствовали. Но зато по вечерам двор оглашался множеством голосов и звуков. В гости к Ратху и Аману часто приходил Иргизов, навещали соседи, иногда — музыканты и даже писатели. А теперь вечером, с закатом солнца, наваливалась на осиротевший двор жутковатая темнота. Ворота закрывались на замок, комнаты изнутри — на дверные крючки. Галия-ханум с вечера закрывалась со своими дочерьми. Тамара Яновна с Ратхом тоже ложились рано: Ратх из Осоавиахима приходил уставший. То у него стрельбы в тире, то кросс по пересеченной местности. А в последнее время все чаше он пропадал за городом, у подножия Копетдага, где совершали полеты планеристы. Тамара Яновна частенько видела из окна Наркомздрава силуэт планера на фоне гор. Видела, как возвращались оттуда в вечерних сумерках юноши и девушки, заполняя гомоном улицу. Она спешила домой, но еще долго приходилось ждать, пока возвратится Ратх. Иногда и сама Тамара Яновна задерживалась на собраниях и совещаниях: дел было много.
Возвращаясь домой, Тамара Яновна на всякий случай заглядывала в почтовый ящик, хотя заранее знала, что дед Каюм-сердар, если было что-то в ящике, давно вынул. Все Юрины письма из Тулы он прочитывал первым и всякий раз, как только приходила с работы Тамара Яновна, нес заветное письмецо от сына ей. За три года — теперь уже Юра заканчивал рабфак и мечтал о Московском нефтяном институте, у Тамары Яновны скопилась целая кипа его писем. В одном из последних писем Юра писал матери, что институт только-только образовался из нефтяного факультета горной академии, в нем будут преподавать такие светила, как Губкин и Топчиев, и попасть в него — главная цель жизни Юры.
По письмам сына Тамара Яновна давно уже составила в своем воображении целую картину его жизни. За три года она не побывала у него ни разу, и он не приезжал, поскольку всегда на лето находились самые неотложные комсомольские дела, — но ей четко представлялось общежитие с длинным коридором и маленькими комнатами по бокам, комсомольский клуб «Октябрь» и библиотека. Ашхабадцы, а кроме Юры их еще около сорока человек, часто собираются в клубе, выпускают свою газету «Туркмены в Туле», копии своей газеты высылают в Ашхабад, в ЦК комсомола. Рабфаковцы занимаются в разных кружках и в совпартшколе. Не могла лишь представить себе Тамара Яновна — кто стирает Юре белье и гладит рубашки. Или — он в не глаженном ходит? В каждом письме она спрашивала сына об этом, но он даже не находил нужным отвечать на ее вопросы. Дед Каюм-сердар, слыша недоумения и возмущения Тамары Яновны, лишь посмеивался. Как-то раз сказал:
— Тамара, твой сын — истинный туркмен. Тысячу лет туркмены в песках живут и никто никогда не слышал, чтобы кто-нибудь за эти тысячи лет заговорил о стирке… А об утюге они совсем не знают.
— Мерите жизнь старыми мерками, — отмахнулась Тамара Яновна. — Внук ваш инженером готовится стать, а вы рады видеть его в тельпеке да чарыках.
— Извини, невестка, пошутил я, — лукаво улыбнулся Каюм-сердар. — Я горжусь моим внуком. Сплю — и во сне его вижу. Хороший человек в нашем роду растет. Нартач, хоть и не разбирается ни в чем, но тоже нахвалиться не может джигитом. Выйдет за ворота к соседям, только и рассказывает о своем ученом внучонке. Я думаю, Тамара-ханум, ты не будешь возражать, если куплю твоему сыну фаэтон: приедет в Ашхабад — отдам ему, как хан будет разъезжать по всему городу. И двух рысаков куплю.
— Да вы что, Каюм-ага! — испугалась Тамара Яновна. — Где это видано, чтобы при Советской власти, да у двух партийцев, сын имел собственную упряжку! Уму непостижимо! И вообще, Каюм-ага, хотела бы я знать, откуда у вас такие деньги? На фаэтон и коней нужны огромные деньги.
— За деньгами дело не станет, Тамара-ханум. Есть у меня деньги.
— Интересно — откуда? — заинтересовалась Тамара Яновна. — Мелеки и воду у вас экспроприировали, отары обе басмачи отобрали. Наверное еще в семнадцатом кое-что припрятали?
— Ай, Тамара-ханум, зачем тебе знать. Русские говорят, много будешь знать, — скоро состаришься.
Каюм-сердар открыто говорил о своем припрятанном богатстве — никого не боясь. Пять лет прошло с того дня, как привез ему Аман золото из песков. Люди уже давно забыли, по соображениям Каюм-сердара, о том далеком дне.
Но вот, как-то раз ночью на айван Каюм-сердара поднялись два незнакомца. Оба в одинаковой одежде. Европейские костюмы на них, бритые, безбородые, но оба — туркмены.
— Не узнал нас, сердар? — спросил один, бесцеремонно усаживаясь на ковер, и пояснил: — Русские шарабара на нас — чтобы подозрения не было. Бороду тоже пришлось сбрить. Времена такие, сердар, — приходится выворачиваться наизнанку. Меня ты знаешь, а приятель мой под чужим именем живет, так что знать тебе, как его зовут — необязательно. Разговаривай со мной и не обращай на него внимания: когда будет надо — он скажет свое слово.
Каюм-сердар не знал ни того, ни другого, и это вызвало в нем раздражение.
— Кто вы такие? Почему без приглашения, среди ночи?! Я не звал вас! — Старик угрожающе засопел, руки его задвигались непроизвольно, словно ища опору.
— Извини, сердар-ага, — спокойно сказал собеседник. — Предупредить тебя о своем приходе мы не могли — сегодня приехали из песков, дел было много. Пока брились, пока переодевались, много времени ушло. Мы, конечно, могли к тебе зайти пораньше, по не захотели смущать тебя своим появлением, перед сыном и невестками. Долго ждали, пока они лягут спать. Вот, дождались — и, как говорится, салам-алейкум.
— Кто вы? — чуть-чуть мягче, но все еще с обидой, повторил Каюм-сердар. — Должен сказать, что я не знаю вас — ни тебя, ни твоего друга. Да и в сверстники вы мне не годитесь — слишком молоды оба.
— Сердар-ага, не буду томить твою душу, — сказал собеседник и, сняв фуражку, провел ладонью по бритой голове. — Я — сын уважаемого курбаши Сейид-оглы. Отец погиб в бою с красными аскерами, но он успел сказать мне кое-что перед боем, — как будто сердцем чуял, что умрет.
— Сейид-оглы погиб?! — испуганно спросил Каюм-сердар. — Как же так произошло? Милостивая и щедрая рука аллаха всегда хранила его от несчастий. Да отнесет его душу в кущи рая всевышний… Аминь… — Каюм-сердар огладил бороду.
— Сердар-ага, теперь приготовься к самому главному, — жалко улыбнувшись, предупредил собеседник. — Моего отца убили твой сын Аман и внук Акмурад.
Каюм-сердар вздрогнул, вскинул бороду, болезненно морщась, словно его ужалила змея. А гость печально кивнул и подтвердил:
— Да, это так, сердар. Это истинная правда. Отец со своими людьми, среди которых были и мы, гнал купленных у тебя овец к границе. Красные аскеры преследовали нас. Возле самых гор они догнали, отбили овец, а джигитам пришлось спасаться в курганче, за старыми стенами. Мы отстреливались, но красные быстро нас окружили. Вдруг слышим: «Сдавайтесь, а то всех перестреляем, как кекликов!» Отец прислушался и говорит: «Вах, да это же Аман, сын Каюм-сердара! Я хорошо знаю его голос. Сейчас мы попробуем договориться с ним». Отец снял с одного из джигитов белую рубаху, привязал к палке и пошел на переговоры. Он встретился с твоим сыном на такыре, потом вернулся и сказал: «Этот Аман с потрохами продался большевикам. Мало того, что он отбил у нас овец — он еще предупредил: если через полчаса не сдадимся без боя, то все будем уничтожены». Отец отвел меня в сторонку и говорит: «Сапар, возьми с собой Плешивого и побыстрей поезжай в Ашхабад к Каюм-сердару. Скажи ему обо всем, что происходит на белом свете. Скажи, что у Амана мы купили овец, отдав ему золото, но Аман этих овец у нас и отобрал. Скажи об этом Каюм-сердару, и пусть он вернет нам золото. Ты понял, Каюм-ага?