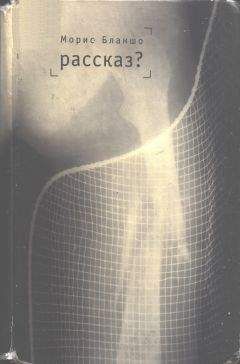V
Ближе к середине второй ночи Фома встал и, стараясь не шуметь, спустился вниз. Его заметил только почти слепой кот; обнаружив, что ночь сменила обличие, он устремился следом за новой ночью, которой не видел. Проскользнув в какой-то туннель, в котором он не узнавал ни одного запаха, кот принялся мяукать, испуская из глубин своей глотки хриплые вопли, коими коты дают понять, что являются священными животными. Он надувался и хрипел. Он извлекал из идола, каковым становился, непостижимый голос, и тот обращался к ночи и говорил.
“Что происходит? — говорил голос. — Духи, с которыми я привык общаться, дух, который тянет меня за хвост, когда миска полна, дух, который будит меня по утрам и укладывает на мягкую подстилку, и, наконец, самый прекрасный из всех, тот, что мяукает и мурлычет и настолько напоминает меня, будто это мой собственный дух, все, все исчезли. Где я? Если я осторожно попробую лапкой, то ровно ничего не найду. Нигде ничего нет. Я на самом верху водостока и могу отсюда разве что упасть. Ну да пугает меня не падение. Ведь правда состоит в том, что мне даже не упасть; падение просто невозможно; я окружен особого рода пустотой, она меня выталкивает, мне ее не пересечь. Так где же я? Горе мне. В былые времена я внезапно превращался в зверя, которого можно безнаказанно швырнуть в огонь, проникал в секреты самого высокого разряда. По раскалывавшему меня надвое озарению, по царапине, которую я неожиданно наносил, я узнавал об обманах, преступлениях, прежде чем они были совершены. А теперь я — существо без взгляда. Я слышу чудовищный голос, которым говорю то, что говорю, не понимая из сказанного ни единого слова. Я мыслю, и мои мысли так же бесполезны для меня, как поглаживание по шерстке или прикосновение за ушком для существ чуждой породы, от которых я завишу. Меня охватывает лишь только ужас. Я бесконечно копаюсь в себе, оглашая все вокруг жалобами жуткого зверя. Что за чудовищная рана, я ощущаю, что лицо мое столь же огромно, как лицо духа, — с гладким и пресным языком, языком слепца, с уродливым, не способным что-либо предчувствовать носом, с огромными глазами, лишенными того правдивого пламени, что позволяет нам видеть в самих себе. Мой мех сечется. Это, не приходится сомневаться, последняя стадия. Как только не удастся, даже среди этой ночи, извлечь из меня, потерев шерсть, сверхъестественный свет, все будет кончено. Я стал темнее мрака. Я — ночь ночи. Сквозь тени, от которых отличаюсь, поскольку я — их тень, я направляюсь к верховному коту. Теперь во мне ни капли страха. Мое, во всем подобное человеческому, тело, тело блаженного, сохранило свои размеры, а вот голова теперь необъятна. Слышится какой-то шум, шум, которого мне еще не доводилось слышать. Исходящий с виду из моего тела свет, пусть он тускл и влажен, очерчивает вокруг меня круг, подобие второго тела, из которого я не могу выйти. Я начинаю различать окрестности. Хотя темнота давит все сильнее, передо мной вздымается какая-то огромная белесая личина. Говорю “мной”, повинуясь слепому инстинкту, ибо с тех пор как я потерял хвост, что стоял трубой и служил мне в этом мире кормилом, я совершенно перестал быть собой. Что, собственно говоря, такое эта все увеличивающаяся и увеличивающаяся голова, которая кажется даже и не головой, а всего-навсего взглядом? Не могу смотреть на нее без тревоги. Она шевелится, она приближается. Она направлена точно в мою сторону и, целиком сводясь к взгляду, производит жуткое впечатление: мне кажется, она меня не замечает. Это ощущение невыносимо. Если бы у меня еще была шерсть, я бы почувствовал, как она встает вокруг моего тела дыбом. Но в своем состоянии я лишен даже возможности испытать тот страх, который ощущаю. Я мертв, мертв. Эта голова, моя собственная голова, меня не видит, ибо я сведен к ничто. Ведь на себя смотрю именно я, и я себя не различаю. О верховный кот, каковым я на мгновение стал, дабы убедиться в своей кончине, теперь я и в самом деле исчезну. Прежде всего перестаю быть человеком. Вновь становлюсь распростертым на земле холодным и неуживчивым крохотным котом. Хриплю еще раз. Бросаю последний взгляд на эту долину, которая вот-вот сомкнется и в которой я вижу человека, тоже верховного кота. Мне слышно, как он скребет землю — когтями, наверное. С тем, что называют миром иным, для меня покончено”.
Стоя на коленях, согнувшись в три погибели, Фома рыл землю. Вокруг него простиралось несколько ям, от края которых был оттеснен дневной свет. В седьмой раз он неспешно, оставляя в земле отпечатки рук, готовил большущую нору, подгонял ее под свои размеры. И пока он ее рыл, пустота, словно заполняясь дюжинами ладоней, потом руками, наконец, целым телом, оказывала его работе сопротивление, превозмочь которое он вскоре уже не мог. Могила была заполнена существом, чье отсутствие она в себя вбирала. Туда погружался, обретая в этом отсутствии формы совершенную форму своего присутствия, труп, вынуть который оттуда не представлялось возможным. Ужас этой драмы предчувствовали погруженные в сон обитатели городка. Когда, завершив могилу, Фома бросился в нее с тяжелым камнем на шее, он столкнулся с телом, в тысячу раз более жестким, нежели земля; с телом могильщика, наперед спустившегося в могилу, чтобы ее выкопать. Эта яма, в точности соответствовавшая ему размером, формой, глубиной, была как бы его собственным трупом, и всякий раз, пробуя в нее зарыться, он напоминал нелепого мертвеца, пытающегося закопать свое тело в своем теле. И посему впредь во всех погребениях, в которых он мог бы занять место, во всех чувствах, каковые ко всему прочему являются могилами для умерших, в том уничтожении, в котором он умирал, не позволяя при этом заподозрить, что мертв, присутствовал еще один мертвец, который некогда его опередил и который, ни в чем от него не отличаясь, доводил до предела двусмысленность жизни и смерти Фомы. В той подземной ночи, в которую он погрузился вместе с котами и их грезами, его место занимал покрытый повязками, с запечатанными семью печатями чувствами, отсутствующим духом двойник, и двойник этот был единственным, с кем он не мог договориться, ибо тот был таким же, как и он сам, обретшим реальность в абсолютной пустоте. Он наклонился над этой ледяной могилой. И как тот, кто, отталкиваясь с петлей на шее от последнего берега, от табуретки, на которую опирается, вместо того чтобы ощутить совершаемый прыжок в пустоту, чувствует лишь удерживающую, до самого конца удерживающую его веревку, оставаясь более чем когда-либо привязанным, как никогда до сих пор связанным с существованием, от которого хотел оторваться, так и Фома в тот миг, когда знал, что мертв, ощутил, что отсутствует, совершенно отсутствует в своей смерти. Ни тела, оставлявшего в его собственных глубинах тот холод, который ощущаешь, прикоснувшись к трупу, и который является не холодом, а отсутствием соприкосновения; ни темноты, сочившейся изо всех его пор и не позволявшей, даже когда он был на виду, воспользоваться, чтобы его увидеть, чувствами, интуицией или, тем более, мыслью; ни того факта, что он ни под каким видом не мог сойти за живого, не хватало, чтобы он мог сойти за мертвого. Здесь не было никакого недоразумения. Он был действительно мертв и однако же отторгнут от реальной действительности смерти. В самой смерти был смерти лишен: чудовищно уничтоженный человек, остановленный среди ничто собственным образом, тем бегущим ему навстречу Фомой, факелоносцем, чьи огни угасли, который словно воплощал последнюю смерть. Уже — когда он наклонялся над той пустотой, в которой в полном отсутствии всяких образов видел свой образ, охваченный сильнейшим, какое только возможно, головокружением, тем головокружением, что не подталкивало его к падению, а мешало упасть и делало невозможным то падение, каковое само же делало неизбежным, — уже вокруг него истончалась земля, и его окружала ночь, ночь, которая ни на что более не отвечала, которую он не видел и реальность которой ощущал лишь потому, что она была менее реальна, чем он сам. Во всех обличиях его охватило впечатление, будто он находится в самом сердце вещей. Даже на поверхности той земли, в которую не мог проникнуть, он был внутри этой земли, и ее нутро касалось его со всех сторон. Со всех сторон его замыкала ночь. Он видел, он слышал интимную близость бесконечности, в которую был заключен самим отсутствием пределов. Воспринимал как некое тягостное существование само несуществование этой юдоли смерти. Мало-помалу до него стали доходить острые и едкие испарения сырого перегноя. Подобно пробудившемуся живым в своем гробу, он с ужасом взирал, как неосязаемая земля, в которой он плавал, превращается в воздух без воздуха, пропитанный запахами земли, гниющего дерева, влажной ткани. Теперь действительно погребенный, он обнаружил, что задыхается в каком-то склепе под наложенными друг на друга слоями похожего на гипс материала. Он пропитывался влагой в какой-то ледяной среде, где со всех сторон на него давили какие-то предметы. Если в нем еще и теплилось существование, то лишь для того, чтобы в этой камере, заполненной погребальными венками и призрачным светом, он смирился с невозможностью ожить. Он обретал дыхание в удушье. Обретал возможность передвигаться, видеть, кричать в недрах тюрьмы, куда был заключен в непроницаемом безмолвии и мраке. Какой странный обуял его ужас, когда, преодолевая последние преграды, он появился в узкой двери своей гробницы, не воскресший, а мертвый и преисполненный уверенности, что вырван из лап и смерти, и жизни. Он шагал, раскрашенная мумия; он смотрел на солнце, которое тщилось выявить на его отсутствующем лике улыбающееся и живое лицо. Он шагал, единственный доподлинный Лазарь, воскрешена была даже смерть которого. Он шел вперед, перешагивая через последние ночные тени, не утратив ничего из своей славы, покрытый травами и землей, шел под падающими звездами ровным шагом, тем самым шагом, который для людей, не завернутых в саван, знаменует восхождение к самой драгоценной точке жизни.