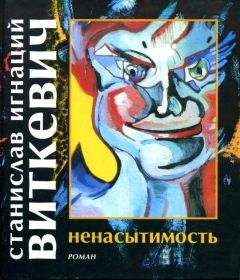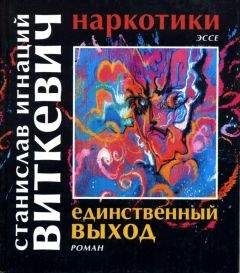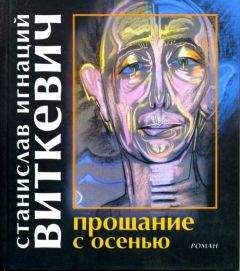— Боишься? — спросила княгиня с чарующей улыбкой дугообразно изогнутых губ, блаженно встряхивая гривой медных волос. Сейчас она не думала о том, что сегодня в нем было что-то подозрительное, — она забыла о своих предположениях. Страстное желание вступило в ее неувядаемые чресла и вместе с другими предчувствиями судорожно опрокинуло внутренности в какую-то всепоглощающую бездонную вогнутость. Вязкая сладость расползлась в ее кровоточащем, наболевшем, уносящемся ввысь сердце: сейчас она могла втянуть в себя весь мир, а не только этого малюточку, мальчишечку, мальчоночку, мальчуганчика, парнишку, паренечка с созревшим уже мужским началом, этого прелестного ангелка, в брючках которого было кое-что для нее — мягкое, бедное, несмелое, которое вскоре грозно возвысится, как указующий перст на грозовом летнем небе, и будет олицетворять его самого (и даже его душу), а затем растерзает ее (заодно и себя — о непонятное чудо такого наслаждения), убьет, уничтожит и будет наслаждаться кровавой, как ее сердце, ненасытимостью до тех пор, пока не забьется вместе с ней в позорных, унижающих и триумфальных для него — виновника этой адской забавы — спазмах неги. Что мужчины знают об истинном наслаждении! Они делают что хотят, лишь отчасти понимая, что наслаждение усиливается до безумия благодаря тому, что «она» является именно этой, а не другой, если не принимать во внимание некоторых мелких чувств. Но они, несчастные, не знают, что значит чувствовать в себе, внутри себя усмиренного, обесславленного и все же огромного и могущественного виновника наслаждения. Это он делает со мной что хочет, он там, во мне — бессилие подчинения чужой силе — вот что запредельно. И к тому же ощущение упадка его обладателя, этого животного. «Нет, я больше не вынесу, я сойду с ума», — шепнула княгиня, разрываясь на части от похоти, охватившей все ее тело, на которое этот болван не отважился посмотреть как покоритель. Так размышляла бедная Ирина Всеволодовна. А как все произошло на самом деле? Об этом лучше бы вообще не говорить. И можно было бы не говорить, если б не некоторые обстоятельства, свидетельствующие о том, что сказать все же нужно.
Теперь только почувствовал Генезип смысл своего пробуждения от детских снов. (В который уже раз?) Ярусы человеческой души бесконечны — нужно лишь уметь неустрашимо продвигаться по ним — либо покоришь свою вершину, либо погибнешь, но в любом случае это не будет собачьей жизнью бездарей, знающих лишь, и то не очень, что они существуют. Ха — попытаемся. Разговор князя Базилия с Бенцем вдруг высветился — так солнце, подкатив к западу, высвечивает сгрудившиеся на востоке облака, бросая на них, уже из-за горизонта, свои умирающие малиново-кровавые лучи. Где он был в этот момент — Генезип не знал. Он переступил границу своего прежнего «я» и навсегда отрекся от интеллекта. Это было первое преступление против самого себя. Схватка двух миров, которые олицетворяли спорщики, дала нулевой результат. «Жизнь сама по себе» (самое обманчивое понятие заурядной человеческой толпы) открыло перед ним путь к падению. Отказываясь от мнимой скуки, необходимого понятия для тех, кто начинает жить, он тем самым отказывался от жизни, ради которой приносил в жертву это понятие. (Этот закон применим не ко всем, но сегодня найдется немало людей, которые б е з з а к о н н о поступают подобным образом.) Грозное божество без трусов и чулок, с «czut’-czut’» обвисшими, но пока еще (грозно поднятый палец — одинокое напоминание) красивыми грудями (Генезипу виделись неизвестные плоды с другой планеты) стояло молча, покорно, с любовью в глазах. В этом был весь ужас. Но об этом не знал невинный младенец. Зипек не знал также, насколько привлекательны для нее были его беспомощность и смущение, какую глубокую, раздирающую нутро застывшими в колючие кристаллы слезами, почти материнскую любовь пробуждал он, помимо желания, именно потому, что был в эти страшные времена редким экземпляром эротически наивного подростка. А здесь, как назло, отвращение... Как может отвращение к себе, с одной стороны, совмещаться с возвышенными чувствами к предмету этого отвращения, с другой? Тайна. Неисповедимы судьбы, зависящие от разных сочетаний гормонов. Вкус такого коктейля всегда может преподнести неожиданность. Но должно же все это кончиться раз и навсегда, черт возьми, и начаться что-то другое — иначе эта минута улетучится, эта единственная минута, которой нужно насладиться, н а с л а д и т ь с я — ах...
— Иди сюда, — прошептало таинственное божество охрипшим от желания голосом. (Куда, о Боже, куда?) Он ничего не ответил: онемевший язык принадлежал, казалось, другому человеку. Она подошла ближе, и он почувствовал запах ее плеч: тонкий, еле уловимый и более ядовитый, чем все алкалоиды мира: манджун, давамеск, пейотль, гармала были ничем в сравнении с этой отравой. Это окончательно подкосило его. Его чуть не вырвало. Все происходило шиворот-навыворот, словно кто-то каверзно запустил машину наоборот. — Не бойся, — говорила грудным, чуть дрожащим голосом Ирина Всеволодовна, не решаясь прикоснуться к нему. — Это не страшно, это не больно. Нам будет очень приятно, когда мы вместе сделаем то, что доставляет большую радость, но почему-то считается неприличным и стыдным. Нет ничего прекраснее двух жаждущих друг друга тел (Опять не то, черт побери!..)... которые дают взаимное наслаждение... — (Траченный молью демон не знал, как приручить, задобрить и обольстить этого несчастного испуганного бычка. Дух улетучился, надрываясь от смеха над бедным, потрепанным, дрожащим от «пучинных» желаний стареющим телом, которое теперь в полумраке в глазах невинного подростка расцветало, может быть, в последний раз невиданной красотой. Накал мучительной страсти неимоверно усиливал очарование момента. В подымающемся тесте страдания проступали изюминки старческого стыда, прикидывающегося истинным, девическим. Победила привычка к ритуальным жестам, и лишь потом, с опозданием, пришло соответствующее чувство: таинственная амальгама материнской нежности и животного, убийственного желания — такое чувство делает женщину счастливой, если, конечно, найдется подходящий объект его приложения. Так думал Стурфан Абноль — но точно этого никто не знает.) Она взяла его за руку. — Не стыдись, разденься. Тебе будет хорошо. Не противься, слушайся меня. Ты так прекрасен — ты не знаешь как — ты не можешь этого знать. Я сделаю тебя сильным. Благодаря мне ты познаешь сам себя -— ты станешь натянутой тетивой лука для полета в даль, которая называется жизнью, — я вернулась оттуда за тобой, я отведу туда и тебя. Я люблю в последний, может быть, раз... люблю... — шепнула она почти со слезами на глазах. (Он видел ее пылающее лицо рядом со своим, и мир медленно и неуклонно выворачивался наизнанку. Там, в гениталиях, сохранялось зловещее спокойствие.) А она? Ее сердце, облеченное шелковой шалью высокомерия, оледеневшее под металлической маской цинизма, устрашенное мудрым (для бабы) духом и скрывающим свои изъяны (впрочем, незначительные) телом, — это сердце, клубок недозрелых и перезрелых, несоразмерных и сложных (ведь она была когда-то матерью) чувств, с диким бесстыдством открывалось навстречу этому молодому извергу, этому несносному юнцу, неосознанно причиняющему ей страдания. Отрочество — это, в сущности, довольно неприятная и неинтересная вещь, если ей не сопутствует высококачественный интеллект. Его свет еще не вспыхнул в Генезипе, но ведь что-то там, кажется, мерцало. Сегодня с этим будет покончено. Ему никогда уже не вернуться назад. Злая, жестокая жизнь уже навалилась на него, словно мифологическое чудовище — Катоблеп или что-нибудь похуже (а ведь это мог быть и послушный баран) — могучие удушающие объятия дракона вожделения уже оплели его и повлекли в темень будущего, где многим не найти покоя, разве что в наркотиках, смерти или безумии. Началось это. — Снова ее слова:
— ...разденься. У тебя такое чудесное тельце. (Она не спеша раздевала его.) А какие мускулы, сильные — с ума сойти. Запонки я кладу вот сюда. Ах ты мой бедный, миленький импотент. Я знаю — это потому, что ты заждался. А это что за пятнышко? (Голос ее задрожал.) А, мой мальчик себя приласкал. Это нехорошо. Надо было поберечь для меня. А теперь — кикс. Но ты ведь при этом думал обо мне, правда? Я отучу тебя от этого. Не стыдись. Ты чудесен. Не бойся меня. Не думай, что я слишком умная — я такая же маленькая девочка, как ты, то есть ты не девочка, ты уже большой мальчик, настоящий мужчина. Мы будем играть в папу с мамой, как семилетние папуасы в своей хижине в джунглях. — Говоря так, она и в самом деле выглядела маленькой девочкой, такой, каких он раньше на дух не переносил. — Я не такая страшная — так только говорят обо мне. Но ты никого не слушай, не верь никому. Ты сам узнаешь меня и полюбишь. Невозможно, чтобы ты не полюбил меня, потому что я тебя так... — первый поцелуй всеведущей самки обрушился на его невинные уста, а безумно-сладострастные глазищи впились в его глаза, разъедая их, словно серная кислота железо. Наконец-то он понял, какой страшной вещью могут быть губы и глаза — такие губы и такие глаза. Он воспламенился холодным огнем и полюбил ее — рывком и ненадолго. Тут же у него это прошло. Все-таки ему были противны прикосновения мокрой медузы к его лицу и эти исступленные «лизания» шального языка. Он абсолютно раздвоился. Но ей не было до этого дела. Продолжая целовать, она затянула его на диван и, как ни противился Зипек, раздела его донага. Сняла ему ботинки и поцеловала красивые гладкие стопы. Но у него там по-прежнему ничто не шевельнулось.