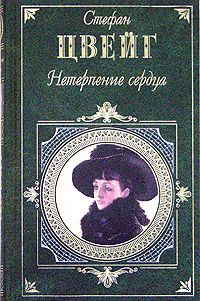Она благодарно и в то же время с грустью взглянула на него.
— Да, — вздохнула она, — я тоже побаиваюсь. Но что же мне делать?
Она произнесла это безучастно я затем вскинула на Каница синие глаза, будто спрашивая совета. Вот бы какие глаза иметь, вспомнилось ему, и вдруг — он сам не мог объяснить, как это с ним случилось, — у него вырвалось:
— Так оставайтесь здесь. — И уже, помимо воли, тише добавил: — Оставайтесь со мной.
Она вздрогнула и изумленно посмотрела на него. Только сейчас Каниц сообразил: он невольно высказал свое неосознанное стремление. Он не продумал, как обычно, не взвесил и не рассчитал этих слов, слетевших у него с языка. Безотчетное желание, значения которого он еще не успел уяснить, неожиданно претворилось в звук, слово. Лишь увидев, как она залилась краской, он понял смысл сказанного и тут же испугался, что она может истолковать это превратно. Наверное, она подумала, что он предлагает ей стать его любовницей. И, чтобы ей не пришло в голову ничего обидного, он поспешно добавил:
— Я хотел сказать: моей женой.
Она встрепенулась, губы ее дрогнули. Каниц ждал, что она вот-вот разрыдается или накричит на него. Но она внезапно вскочила и выбежала за дверь.
То была самая страшная минута в жизни нашего друга. Только теперь он осознал всю нелепость своего поступка. Ведь он оскорбил, унизил добрейшее существо, единственного человека, который питал к нему доверие. Да как посмел он, пожилой, некрасивый еврей, жалкий торгаш и скряга, предложить руку такому чуткому, благородному созданию! Он даже оправдывал ее за то, что она в ужасе убежала от него. «Что ж, — мрачно подумал он, — так мне и надо. Наконец-то она распознала меня и удостоила презрения, которого я заслуживаю. Что ж, лучше так, чем благодарность за обман». Каница нисколько не обидело ее бегство, напротив, в этот момент, как он мне сам признался, он был даже рад. Он почувствовал, что получил по заслугам и что отныне она станет думать о нем с таким же презрением, какое он испытывает к себе сам.
Но вот она появилась в дверях, очень взволнованная, с заплаканными глазами. Плечи ее вздрагивали. Она подошла к столику и, прежде чем сесть, ухватилась обеими руками за спинку стула. Затем, тихо вздохнув и не поднимая глаз, произнесла:
— Простите… простите меня за неучтивость… за то, что я… убежала. Но я так испугалась… Как же вы могли?.. Ведь вы меня не знаете… Вы меня совсем не знаете…
Каниц был не в силах вымолвить ни слова… Глубоко потрясенный, он видел, что в душе ее не было гнева, а только лишь страх. Она была испугана безрассудством его неожиданного предложения так же, как и он сам. Ни один из них не решался заговорить первым. Оба боялись взглянуть друг на друга. Но в то утро она не уехала. До позднего вечера они не расставались. Через три дня он повторил свое предложение, а спустя два месяца они поженились.
Доктор Кондор остановился.
— Ну, еще по бокалу, я сейчас заканчиваю. Мне только хотелось бы подчеркнуть следующее: здесь болтают, будто наш друг хитростью завлек наследницу и женился на ней исключительно с целью завладеть поместьем. Но я повторяю: это неправда! Как вы теперь знаете, поместье уже принадлежало Каницу, когда он делал предложение; в его женитьбе не было никакого расчета. Да разве он, мелкий торгаш, осмелился бы посвататься к хрупкой синеглазой девушке из корыстных побуждений? Ни за что. Он решился на это помимо воли, поддавшись внезапно охватившему его чувству, которое было искренним и, как ни странно, искренним осталось.
Ибо следствием этого неожиданного поступка оказался на редкость счастливый брак. Удачное сочетание противоположностей — наиболее благоприятное условие для гармонии, и то, что поначалу вызывает изумление, потом нередко выглядит совершенно естественным. Как и следовало ожидать, в первые дни скоропостижно обручившиеся боялись друг друга. Каниц опасался, что до нее дойдут, слухи о его темных махинациях и она в последний момент с презрением оттолкнет его; поэтому он с невероятной быстротой принялся заметать следы своего прошлого, прекратил все сомнительные дела, с убытком для себя ликвидировал долговые обязательства и порвал связи с бывшими сообщниками. Приняв христианство и заручившись поддержкой влиятельного крестного, он за солидную взятку добился разрешения прибавить к фамилии «Каниц» более звучную и аристократическую — «фон Кекешфальва»; и, как это часто бывает в подобных случаях, первоначальная фамилия вскоре бесследно исчезла с его визитных карточек. Тем не менее до самой свадьбы Каниц жил в постоянном страхе, что он вдруг лишится доверия своей невесты. Его нареченная, которой ее прежняя госпожа на протяжении двенадцати лет изо дня в день вдалбливала, что она бестолковая дура и злючка, с дьявольской жестокостью подавляя в ней всякое чувство собственного достоинства, ожидала и от нового повелителя бесконечных придирок и постоянных издевательств; привыкнув жить в неволе, она раз и навсегда примирилась с ней, как с неизбежностью. Но вдруг произошло неожиданное: все, что она делала, заслуживало одобрения. Человек, в чьи руки она отдала свою жизнь, каждый день говорил ей все новые и новые слова благодарности и относился к ней с неизменным робким почтением. Молодая женщина была изумлена: столь нежное обращение казалось ей просто непостижимым. И почти увядшая девушка постепенно расцвела: ее формы округлились, она похорошела. Прошел еще год или два, прежде чем она окончательно решилась поверить, что и ее, неприметную, униженную, притесненную, могут уважать и любить, как и всякую другую женщину. Но истинное счастье началось для них с рождением ребенка.
В те годы Кекешфальва с особой энергией взялся за работу. Времена мелкого торгового агента Каница миновали безвозвратно, его деятельность приобрела размах. Он модернизировал сахарный завод, стал акционером металлургического предприятия в Винер-Нейштадте и совместно с картелем спиртозаводчиков провел блестящую операцию, наделавшую много шума. Но пришедшие к нему богатства — теперь уже настоящие — ничего не изменили в скромном, уединенном образе жизни супругов. Словно стараясь как можно меньше напоминать людям о себе, они редко приглашали гостей, и знакомый вам дом выглядел в прежние времена несравненно проще и провинциальное, — но тогда его обитатели были счастливы, не то что теперь.
Потом судьба послала ему первое испытание. Жену Кекешфальвы давно беспокоила боль в желудке. У нее появилось отвращение к еде, она похудела и продолжала слабеть с каждым днем; не желая тревожить крайне занятого супруга, она молчала и только стискивала зубы при очередном приступе. Когда же она не могла дольше скрывать свою болезнь, было уже поздно. В санитарной машине ее увезли в Вену для операции предполагаемой язвы желудка — в действительности у нее оказался рак. Вот в те дни мы и познакомились с Кекешфальвой. Более страшного, дикого отчаяния, в каком он тогда находился, я еще никогда ни у кого не встречал. Он не желал, он просто отказывался понимать, что медицина бессильна спасти его жену; то, что мы, врачи, ничего больше не делали, ничего больше не могли сделать, он объяснял лишь пашен косностью, равнодушием и неумением. Пятьдесят, сто тысяч крон предлагал он профессору, если тот вылечит ее. За день до операции он вызвал из Будапешта, Мюнхена и Берлина виднейших специалистов, надеясь, что хоть один из них выскажется против вмешательства хирурга. Я в жизни не забуду, какими безумными глазами смотрел он на нас, крича, что все мы убийцы, когда несчастная умерла вскоре после операции; между тем такой исход был неминуем.
С того дня Кекешфальва словно переродился. Этот жрец наживы отрекся от идола, которому привык поклоняться с детства, — он потерял веру в золото. Отныне он жил лишь для своего ребенка. Он перестроил дом, нанял слуг и гувернанток; столь бережливому когда-то человеку никакая роскошь не казалась излишней. Девяти-десятилетнюю девочку он возил в Ниццу, Париж, Вену, баловал ее, как принцессу, швыряя деньгами направо и налево с тем же неистовством, с каким прежде копил их. Возможно, вы не так уж неправы, называя нашего друга добрым и благородным; необычайное равнодушие и даже презрение к деньгам овладело им с тех пор, как его миллионы не помогли ему спасти жену.
Время уже позднее, я не стану подробно рассказывать, как он лелеял свою крошку; да это и не удивительно, ибо в те годы она была очаровательным созданием, изящная, стройная, легкая, настоящий эльф с серыми глазенками, ясно и доверчиво глядевшими на мир; от отца девочка унаследовала проницательный ум, от матери — душевную кротость. Смышленая и ласковая, она росла, как цветок, пленяя окружающих милой непосредственностью, свойственной лишь детям, которые никогда не сталкивались с враждой и жестокостью. И только тот, кто знал, сколь велика была любовь к девочке этого грустного стареющего человека, который и не чаял, что породит такое светлое, радостное существо, — только тот мог постигнуть глубину его отчаяния, когда судьба нанесла ему второй удар. Он не хотел, он решительно отказывался верить — да и по сей день не верит, — что именно этому ребенку, его ребенку, суждено быть калекой; я уж молчу о множестве нелепых поступков, совершенных им в полубезумном состоянии. Достаточно сказать, что своей настойчивостью он просто выводит из себя врачей всего мира, что он предлагает нам бешеные гонорары, будто от этого зависит немедленное исцеление больной, что, давая волю безудержному нетерпению, он без толку звонит мне по телефону. Мало того, как недавно сообщил мне по секрету один коллега, старик каждую неделю посещает университетскую библиотеку и сидит там часами вместе со студентами, роясь в медицинских учебниках и старательно выписывая из словаря значения непонятных ему терминов, — он, видимо, тешит себя несбыточной надеждой отыскать то, что мы, врачи, упустили или позабыли. Дошли до меня и другие слухи — вы, наверное, будете смеяться, но так уж повелось: о силе страсти всегда судят по совершаемым во имя ее безрассудствам, — что в случае выздоровления ребенка Кекешфальва обещал пожертвовать крупную сумму, как местному приходу, так и синагоге; не зная, кому молиться — богу ли своих предков, от которого отрекся, или новому, — он принес клятву обоим, смертельно боясь разгневать каждого.