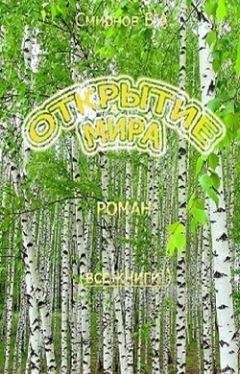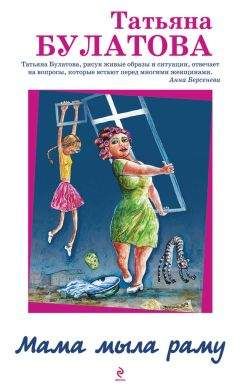В счастливый, горячий этот денек, когда заканчивали работу, появился в усадьбе проездом Турнепс, агроном из земства, и уж тут опять полезли у Шурки, и не у него одного, глаза на лоб, — такое пошло вокруг вытворяться, и, между прочим, одно дельце, будто специально придуманное для ребят, чтобы потешить их, побаловать, наградить за работенку и озорство лакомством. Да каким, — почище репы и поболе ее. Погоди, с ребячью голову вырастет гостинчик, много заведется гостинцев, белей и слаще сахара.
И ведь ничто не обещало этого будущего праздника. Поначалу была одна жалость, хоть не гляди: гость долго торчал каменной глыбой посередь усадебного двора, уставясь на пожарище.
— Эт‑то… как же так? — спрашивал он, запинаясь, должно быть, ничего не знал и не ожидал увидеть подобное. — Эт‑то что же… такое?
Он спрашивал одинаково, как поп отец Петр, приезжавший после пожара в усадьбу.
Агроном нынче не ратовал за многополье, не толковал про свой любимый турнепс, не уговаривал разводить, чтобы молока было хоть залейся, лепешки появились в каждой избе, как с пареной репой, — вкуснее! слаще! — не клялся честным, благородным словом, что любая эта кормовая репина вырастет с голову, белая, сахарная, в пять, десять фунтов. Прозванный за глаза насмешливо — ласково Турнепсом, потому что и сам смахивал на него, — толстый, белый, со сладкой улыбочкой, — «посмотришь, послушаешь его, — говорил народ, — и точно чаю с ландрином досыта напьешься», он, агроном, отдуваясь, снял фуражку с кантами и значком, вытер платком бритую сахарную голову.
— Уф!.. Уф — ф!..
Расстегнул голубоватый клеенчатый дождевик, пиджак, косой ворот белой батистовой рубашки, и все ему было жарко.
— Уф! Уф!.. Где же Ксения Евдокимовна? Я — к ней… Как — с? Не может быть?! Уф — ф! Уф!..
А когда узнал сельские новости про Совет, что народ самовольно запахал порядочно‑таки землишки в барском, знакомом ему поле, Турнепс застегнулся на все пуговицы, нахлобучил глубоко фуражку и где стоял, там и сел — на клумбу, в цветы, и таял, таял, как ребячий снегур в оттепель, на масленице, темнея, оседая, роняя руки.
— Платон Кузьмич Воскобойников убит… — бормотал он, словно разговаривая сам с собой. — Хоронил, все знаю. Но пожар… грабеж! Теперь, уф — ф, земля, отнятая у владельцев… Послушайте, это же, уф — ф… пугачевщина, разинщина!!! Нет? А что же?
Дядя Родя, оказавшийся в усадьбе, стоял около агронома, слушал его бормотню и как будто не знал, что ему делать: спорить, ругаться или успокаивать нежданного гостя. Должно быть, решил успокаивать, потому что послал ребят за водой.
Яшка с Шуркой живехонько притащили с колодца полное ведерко самой студеной, захватили из людской большой ржавый ковш.
Турнепс, сидя по — прежнему на клумбе, серый и мокрый, жадно хлебал и проливал воду на пыльные штиблеты. Прикатил в тарантасе, а точно пешедралом пер, заглянул, верно, по дороге в мужицкие поля, непоседа. Он бормотал — булькал в железный ковш с водой:
— Я сам… в душе… социалист, давно. Честное, благородное слово!.. Я за республику, идеалы демократии, за справедливость, разумеется… за упорядочение земельных отношений законом… Но решение Учредительного собрания, скажу вам, будет только началом. Многополье, большие массивы, вот что нам нужно!.. И навоз! По крайней мере пятьдесят телег на десятину… Признаюсь, я плохо разбираюсь в политике. Комитеты, партии, Советы — не по моей части. Однако, позвольте, скажу откровенно: пахать без согласия владельцев их землю…
— Пустырь, брошенный, — поправил как‑то мягко — ласково Яшкин отец. — Скажем, позаимствовали до осени. Только и всего. Чтобы зря не пустовала земля.
— Пустырь? Уф — ф… Все равно. Поделить на клочки, это еще, дорогой мой гражданин — товарищ, не уничтожение бедности.
— А мы не делили, некогда было, сообща вспахали и засеяли, — пояснил дядя Родя, стоя над агрономом, как над ребенком, утешая его чем‑то. — Вот новый управляющий Василий Ионыч, назначенный Ксенией Евдокимовной, добавил нам сегодня, спасибо, бросовую низинку и семян в долг дал. Сеем лен по перелогу… Это как, по вашей науке? Уродится?
Турнепс швырнул ковш на клумбу, в примятые цветы, вскочил и, отдуваясь, расстегнулся.
— Лен по целине?! — вскричал он. — Надеюсь, не кудряш, долгунец?.. Я не одобряю захват, честное благородное слово, но любопытно посмотреть… Массив? А сеете, конечно, из лукошка? Почему не попросили сеялки, она же есть в усадьбе, я знаю… Уф — ф! Идемте.
Но посмотреть, как сеют лен, ему сразу не удалось. Застучали, дрогнули железные ворота, наново выкрашенные под серебро, и, со скрежетом отворяя их розовой, ситцевой спиной, пятясь, показалась голенастая, растрепанная баба, а за ней, на веревке, рыжая комолая коровья морда. Корова упиралась, не шла в ворота, и баба, дергая веревку, уговаривала скотинину ласково и сердито, а та не слушалась.
— Бараба… — задохнулся Яшка.
Шурка и того не выговорил, лишь сделал судорожное движение пересохшим вдруг горлом.
— Ребятишки, милые, — оглянувшись, позвала Катерина, — ну — ткось, хлестните ее прутом каким, глупую. Не идет на свое место, ровно позабыла, где оно…
Милые ребятишки оказались непослушными, как корова. Они не могли шелохнуться, ноги их приросли к земле. Не верилось, что они видят. Все было неожиданное и неправдоподобное, невозможное: и эти, сами собой раскрывшиеся со ржавым скрипом, усадебные ворота, обихоженные не до конца; и розовая, блеклыми цветочками, выгоревшая и прохудившаяся на плечах и спине кофта; и большая коровья, какая‑то квадратная, красная морда; и черное, худое лицо Барабанихи.
И так же, как ребята, не сразу пришел в себя дядя Родя.
— Что стряслось? — нахмурился он, подходя к воротам.
— А то и стряслось, что Фомичевы монашки не дают мне прохода, — ответила Барабаниха, управившись с коровой и воротами. Она притворила за собой фигурные, жестяного блеска половины теперь грудью, не выпуская из рук веревки. — Завидки берут: Катерина — тко Барабанова, бескоровница, кажинный полдень несет с гумна ведерко молока. Им бы, постницам окаянным, еще третью корову завести… Токо и слышу: украла, середь бела дня увела со двора… Какая я воровка? Говорила и говорю: не одну эту корову отломила — отработала Крылову. Думала, красная — тко радость и в мою избу нонче заглянула. Ан, померещилось…
Не сухая серая ольха качалась сегодня перед Шуркой и Яшкой, скрипя и свистя. И не голубые крупные живые звезды светились и спрашивали. Обгорелая, слепая, мертвая жердь торчала посередь усадебного двора. И к жерди этой была привязана на веревке рыжая комолая корова, комод комодищем. Она‑таки признала старое место и потянула за собой к скотному двору обгорелую жердь.
— Ну, и слава богу, живи тут — отка на здоровье, как прежде, — сказала ласково — грустно Барабаниха, становясь обыкновенной, доброй и жалостливой мамкой. — Теперича и веревка не нужна, найдешь дорогу…
Она принялась развязывать узел петли на огненно — атласной, со складочками, отвислой шее. Гладила, отвязывая, и разговаривала с коровой.
— Постой, постой, — остановил Яшкин отец Катерину. — Говорю тебе, обожди!
— Не обожду. Меня больше не омманешь, — ответила с горделиво — злой усмешкой Катерина.
Она не плакала, не кричала, она словно решила про себя окончательно и спокойно то, что ее мучило.
— Баяли, за бедных… А она, ваша — тко слобода, риво — люция, видим теперича за кого… Нет, не омманешь дуру — ученая… Мужа на войне убили. Третий год его хороню, Дорофея‑то… Думаешь, и меня с девчушками убьют, голодухой уморят? Врешь! Мы живучие.
Агроном Турнепс больше не отдувался, не вмешивался в разговор, он только таращился во все глаза на Катерину и дядю Родю и все вытирал носовым платком бритую голову.
Дядя Родя удерживал руки Барабанихи, не дозволял ей освободить корову от привязи.
— Вот что, Катерина Демьяновна, — уважительно и просяще сказал он, откашливаясь, разравнивая бугры над бровями. — Веди‑ка ты корову к себе обратно, пожалуйста. Лето она запросто прогуляет в стаде, а осенью… Посмотрим, как там будет дальше… И не сумлевайся в революции, Катерина Демьяновна. За тебя она, наша революция, за таких, как ты, боремся, верь мне. Дай нам хоть малый какой срок, сама все увидишь. И никто не смеет обзывать тебя, оскорблять. Совет запретит, не позволит… Вот побаиваюсь, зимой сена, пожалуй, не хватит у тебя прокормить корову. Надобно, мы скажем, о сенце подумать загодя. Соображаешь? Давай заворачивай свою красную радость домой.
— Нет уж, обратно не поведу, — грустно — решительно сказала Барабаниха. — Отплакались мои девчушки, отпрощались с коровой. И я вместе с ними отгоревала. Что же нам — отка опять ночь реветь?.. Жили без молока — не умерли. Авось проживем и ноне. Не нам, видать, милый Родя, хлебать молоко… А мы и не любители. Про нас — квас.